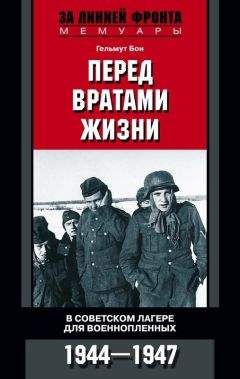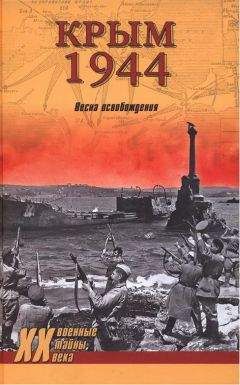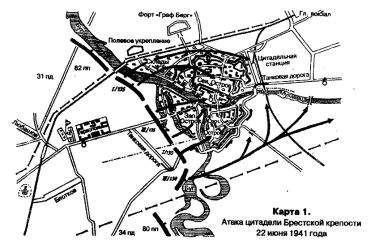— Расскажите подробнее об этом! — говорит он, и мне кажется, что эта вежливая форма обращения звучит неприязненно.
Очевидно, он интересуется моим мнением о работе журналиста в гитлеровской Германии. Но он спрашивает это лично для себя, так как не делает никаких записей.
— Итак, вы считаете, что во время войны неоднократно велись мирные переговоры между Германией и Советским Союзом? — понизив голос, спрашивает он.
— Ну да, конечно! — говорю я.
Я подробно говорю о самых разных вещах. Я пытаюсь объяснить ему противоречивость гитлеровской Германии. Хотя сам прекрасно понимаю, что для этого в маленькой анкете нет места.
У меня возникает твердое убеждение, что я провалился.
— Позже вас пригласит на собеседование товарищ преподаватель! — слышу я голос ассистента, и мне предлагают подождать в коридоре.
В это время по лестнице поднимается Ларсен.
— Последний шанс! — догадывается он. — Сейчас я вас приглашу! — говорит Ларсен, входя в свою комнату.
— Да нет, я уже был! — сквозь зубы говорю я.
Остальные, которые вместе со мной ждут в коридоре, уже поглядывают на нас.
Но Ларсен еще раз оборачивается.
— Тогда до скорого свидания! — говорит он с ударением на последнее слово.
Нет, нет! Я словно парализован и жду еще почти два часа, пока меня, наконец, снова приглашают войти. В дверь направо!
— Подождите еще! — уже два раза говорил мне ассистент, который регистрировал меня.
Но вот, наконец, я все же вошел!
Я сижу напротив маленького седовласого преподавателя. Но он все еще занят и листает какие-то бумаги.
Очень подвижный и в то же время очень солидный. Наверняка он любит пропустить стаканчик красного вина, а раньше писал рецензии на театральные постановки.
На нем спортивный пиджак в клетку и не совсем новый галстук.
— Сколько у нас еще, Роте? — поворачивается он всем корпусом к своему ассистенту.
— Четырнадцать! — пересчитывает тот анкеты, все еще лежащие перед ним на столе.
— Так много? Но тогда на сегодня все! Уже семь часов вечера! — говорит седовласый.
Конечно, седовласый преподаватель был прав, когда не хотел принимать меня в школу. Хотя он не сказал это вслух. Но мы оба сразу поняли это, когда наши взгляды встретились.
— Так называемые образованные люди, получившие образование в Германии, плохие ученики. Они усвоили слишком много неверных понятий в своих капиталистических школах, — говорит он, перебирая четырнадцать анкет. — И конечно, вы твердо убеждены в том, что в своем умственном развитии превосходите простого рабочего! — провоцирует он меня. — Мы добились гораздо лучших результатов с теми учениками, головы которых не были забиты всякими неверными знаниями!
— Это вполне возможно! — покорно соглашаюсь я с этим эмигрантом.
— Вы были журналистом в нацистской Германии? — удивляется он, просматривая мою анкету. — Тогда ваше место среди военных преступников, а не в антифашистской школе!
— Я писал фельетоны для литературного отдела газеты! — считаю должным подчеркнуть я. Я уже с трудом сдерживаюсь, чтобы не встать из-за стола и не уйти.
— Фельетоны в нацистских газетах были еще хуже, чем все остальные материалы, — считает он.
— Вы же не читали ни одного моего фельетона! — со смехом говорю я.
Да, я смеюсь, хотя, по правде говоря, мне хотелось бы гордо поднять голову и уйти.
За разговором быстро пролетает еще минут десять. Меня пытаются убедить в том, что Сталин самый мудрый человек современности. Я вынужден выслушивать утверждение, что немецкие интеллигенты являются слугами монополистического капитала.
— Если что и может вас оправдать, так это только ваша молодость!
Я так и не понял, собирается ли он принять меня в школу или нет?
Когда я в одиночестве спускаюсь по лестнице — все остальные из нашей комнаты уже успели поужинать в столовой, — я теряюсь в догадках, как же обстоят мои дела на самом деле.
— Возможно, он хотел лишь поиграть со мной в кошки-мышки? — делюсь я с Мартином своими сомнениями.
— Да не выдумывай ты! — говорит Мартин. Но и про себя он не знает наверняка, выдержал ли собеседование или нет. — Окончательное решение принимается на специальной конференции. Но на практике решающее значение имеет записка от экзаменующего преподавателя.
Никто из нас не уверен, выдержал ли он испытание или нет. И Хайни Хольцер, который возомнил себя видным деятелем Коммунистической партии Германии, возвращается после собеседования в подавленном состоянии. Товарищ преподаватель спросил его:
— Как же такое стало возможным, что вы, видный деятель коммунистической партии, дослужились в фашистском вермахте до звания унтер-офицера?! Почему же вы не перебежали?!
Хайни Хольцер возмущается:
— Как будто это было так просто! Но я его тоже спросил: почему он тотчас сбежал от Гитлера, еще в 1933 году! Конечно, гораздо проще выступать с умными речами в эмиграции, чем работать нелегально, товарищ! Так я ему сказал!
В действительности Хайни Хольцер не задирал нос перед преподавателем во время собеседования, а был паинькой и позволял ему орать на себя. Ведь он сам тоже не работал нелегально на благо коммунизма, когда после прихода к власти Гитлера снова получил работу каменщика с достойной почасовой оплатой труда. Забыв об осторожности, уже во время нахождения в антифашистской школе, он рассказывает своему приятелю, как в Литве каждый день ел курицу, когда вместе со своей ротой наступал на Ленинград.
Некоторые из нас, которые при Гитлере не имели ни денег, ни высоких постов, а были всего-навсего подмастерьями на предприятиях или простыми работниками в сельском хозяйстве, — даже они трясутся от страха.
— Как ты думаешь, я прав, когда на вопрос преподавателя, кто такой Маркс, я ответил: первый коммунист? — спрашивает один из них.
— Меня спросили, согласен ли я с границей между Польшей и Германией по Одеру — Нейсе. Я им ответил, что ничего не могу изменить, раз Силезия отходит теперь к Польше! Но преподаватель сказал, что этого недостаточно! По его мнению, я должен был согласиться с тем, что граница по рекам Одеру и Нейсе устранила вековую несправедливость. Но я промолчал. Ведь я сам родом из Силезии, — рассказывает другой. Преподаватель специально задал ему этот вопрос, так как знал, откуда он родом.
У каждого из нас имеются свои причины опасаться провала.
— Оставьте меня в покое! — нетерпеливо отмахиваюсь я, так как они постоянно спрашивают меня, правильно ли отвечали на тот или иной вопрос.
Пленные из нашего городского лагеря и с кожевенного завода, кандидатуры которых я сам подбирал, абсолютно уверены в том, что меня приняли в антифашистскую школу.
Школа добилась первого успеха: мы все взбудоражены до предела!
И вдруг как гром среди ясного неба! В субботу вечером, когда мы вернулись с места построения в свою комнату, к нам заходит посыльный от старосты сектора и зачитывает три фамилии.
В чем дело?
Мы затаили дыхание, как будто только что услышали залп русских «катюш» и теперь ждем разрывов.
Вилли Кайзер назван в числе этих троих!
Они должны собраться и явиться в комендатуру! Так точно, с вещами.
Никто не знает, что случилось.
Точнее говоря, каждый знает, в чем тут дело! Этим троим отказано в приеме в школу!
Они никогда не станут курсантами, которые через четыре месяца поедут домой. Они снова превратятся в обычных пленных. В этот момент каждый из нас думает о рассказе того пленного, который одним воскресным утром тайком пробрался к нам через колючую проволоку: «Ты-ся-чи у-мер-ли!»
Но эта тройка еще раз возвращается назад.
— Как хорошо, что вы еще раз показались на глаза! — радуемся мы.
Они получили еще по паре белых хлопчатобумажных носков.
— Как знать, для чего они пригодятся! — с задумчивым видом сказал Вилли Кайзер.
А потом они ушли.
Следующий день воскресенье. Больше нет смысла волноваться!
Рано утром я первым направляюсь в комнату для умывания. Потом растираюсь снегом. Я ничего не упускаю из виду, чтобы быть бодрым и готовым ко всем неожиданностям.
Сегодня нам не нужно идти в лес за дровами. Но, прихватив с собой санки, мы направляемся на какой-то склад в двенадцати километрах отсюда.
Миновав ворота, мы прибавляем шагу.
У нас с Мартином одни санки на двоих.
Я хотел бы поговорить с ним о чем-нибудь, чтс прояснит необычность этого плена. Но мне ничего не приходит в голову.
Сегодня ясное зимнее утро. Вокруг избы, крытой соломой, одиноко стоящей в зарослях, рыщет по сугробам охотничий пес. У него длинная шелковистая темно-коричневая шерсть. Черно-белая сорока, растопырив крылья, весело скачет с одного дерева на другое. За оконным стеклом виднеется лицо женщины, которая смотрит, как наш санный караван тянется мимо ее избушки. Для этой русской женщины мы абсолютно чужие.