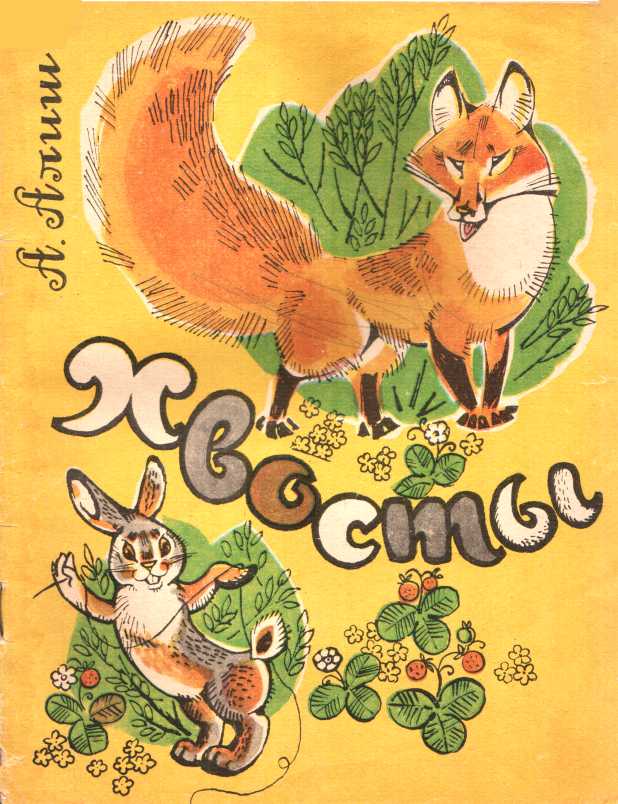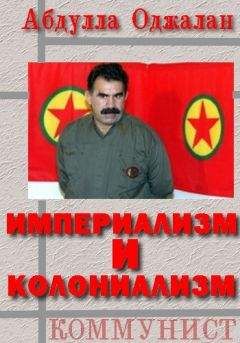десантников и против которой ни с ломом, ни с оружием не выстоишь. Овладев приемами, Спирин ничего не боялся и уж, конечно, не боялся сержанта. Что-то торжествующее, жаркое разлилось в нем, когда он увидел, как напрягся Есенков, напружинил ноги, готовясь отскочить в сторону, а глаза-то, глаза – они побелели, будто налились молоком, сделались мелкими, вобрались в череп – боится его Есенков, ой как боится, но что-то сдерживало Спирина.
– Повтори! – попросил он.
– Подонок, – проговорил Есенков. И у него внутри около самого сердца будто бы несколько пузырей лопнуло – налили туда мыльной воды, пузыри вспенились и лопнули, сделалось тяжело. Видя, что Спирин медлит – удерживает его некий поводок – уж не рана ли Есенкова, да нет, чужая рана его вряд ли удержит, тут что-то другое. Вполне возможно, Фатахов, который, если что, может выступить свидетелем, – Есенков продолжил: – Из-за того, что мы оказались без гранатомета, легли ребята, понял? Тебе за это придется ответить.
– Не шей мне чужого, – сквозь зубы проговорил Спирин, – ой, предупреждаю, не шей!
– Я не шью. Это – твое. Кровь на тебе.
– Ну сообщи обо мне куда следует, сержант, сообщи!
– Что мне до тебя, – спокойно проговорил Есенков, – и что мне о тебе куда-то сообщать. Зачем? Чтоб ты получил полтора года условно и по-прежнему портил своим пребыванием воздух? А ребят нет в живых. Кто объяснится с их матерями, с их отцами, с семьями? Ты, Спирин? – Есенков не боялся Спирина, говорил, что думал, и у него под сердцем раз за разом что-то лопалось, пенилось и щелкало. Пузырьки не пузырьки, а что-то такое, о чем Есенков раньше не знал. – Кровь на тебе, Спирин, понял? Ты за нее должен ответить.
– Смотри, сержант, я тебя предупредил – будешь лежать на земле, как те трое, – в свистящем шепоте Спирина неожиданно появились неуверенные нотки: его сбивало спокойствие Есенкова, уверенность в глухом омертвелом голосе, но тем не менее останавливаться и отрабатывать задний ход он не собирался. – Имей в виду, Фатахов – не свидетель, он труслив, как койот, он этого боится. – Спирин резко выкинул перед собой руку, пошевелил пальцами, сжал их в кулак, – я тебя уложу и всем скажу, что так и было. А Фатахов, он это только подтвердит.
– Не подтвердит, – Есенков спокойно стянул со здорового плеча автомат, передернул затвор, увидел, как увеличились, став огромными и объемными, будто два перезрелых яблока, глаза Спирина и, останавливая его бросок, нажал на спуск.
Очередь была оглушающе-гулкой, короткой – в автомат был заправлен рожок, который Есенков оставлял для себя, семь патронов – Спирина откинуло назад, он прокатился по горячей земле, дернулся и затих, успев все-таки напоследок понять, что произошло, хотя и не верил, что это могло произойти.
– Вот и все, – не теряя спокойствия, холодным далеким голосом сказал Есенков, обращаясь к Фатахову, лицо его дрогнуло, сделалось горьким, чужим – перед ним разверзнулась пустота, не имеющая дна, он должен был сейчас унестись в нее, но прежде, чем упасть, Есенков успел разглядеть по ту сторону пустоты Фатахова – маленького, съеженного, не похожего на себя, но все-таки это был Фатахов, и поэтому Есенков обратился к нему: – Мне ведь, Мирза, эта война тоже ни к чему, но что я могу сказать матери Володьки Линева, а? Уж лучше ничего не говорить. А как я могу не говорить? Для этого нужна причина, – на лежавшего Спирина он даже не глядел. – При-чи-на, понял? Нельзя мне объявляться дома! Ты, Мирза, подтверди, как все было, обязательно подтверди. Там! – он поднял руку, потыкал пальцами в воздух, в небо, где медленно, на неподвижных расправленных крыльях кружил орел.
Пик стрельбы орел пересидел в горах и теперь вернулся. Орлу не было никакого дела до всего земного, до выстрелов и войны, его интересовало только одно – еда. Будь у орла возможность добывать пищу в небе, он никогда бы не спускался на землю.
Несколько дней Люда Гирькова не могла прийти в себя – то плакала так, что теряла сознание и матери приходилось дежурить около нее с нашатырем, то, вдруг высушив слезы, начинала готовиться к отъезду, доставала из-под койки новенький, остро пахнущий пластмассой чемодан, похожий на огромный портфель-дипломат и торопливо, словно бы чего-то боясь, складывала туда вещи, и, когда мать, скорбно поджимая губы, спрашивала у нее, куда же она собирается, Люда отталкивала от себя чемодан, растерянно садилась на табуретку и бормотала едва слышно:
– Да-да, ведь он не оставил адреса. Дома у него тоже не знают, где он находится. Что делать, мама, скажи мне, что делать?
Старшая Гирькова, седая, оплывшая, будто большая рождественская свеча, много пожившая и много повидавшая женщина, – следы былого откровенно и как-то беспощадно отпечатались на ее некогда красивом лице, – не знала, что делать, приподнимала округлые полные плечи, привычно поправляла рукою седые волосы и, глядя вбок, бормотала монотонно, словно у нее за дочь не болело сердце:
– Что делать, милая? Отказ ты получила, от ворот поворот… А раз такое – искать надо себе новую пару.
– Нет! – Люда ожесточенно мотала головой, из глаз выбрызгивали слезы. – Не могу.
– Тогда не спрашивай, что делать. Я тебе дельный совет даю – ты отказываешься.
– Я люблю его!
– Зачем? – жестко спрашивала мать. – Считай, что он бросил тебя. Ушел и даже адреса не оставил. Разве можно любить такого человека?
– Он ранен, у него нет ног… А руки? Я не знаю, что у него с руками!
– Тем более, нечего его любить. Сядет на шею, а калека не калека – все равно есть-пить просит. Так будет требовать, что измучит тебя. Ты об этом думала?
– Я буду кормить его.
– На твою-то зарплату? – мать качала головой и с неожиданным любопытством всматривалась в дочь, пытаясь найти в ней саму себя, свою юность, сопоставить прошлое с настоящим, но обычная проницательность подводила ее, две истины были несопоставимы, и лицо у матери делалось невеселым. – Ты, дочка, должна еще научиться зарабатывать деньги, – говорила она, не придавая значения тому, что слова ее имеют двойной смысл.
– Я знаю, что надо делать, – наконец заявила ее дочь и, высушив глаза платком, села за стол. – Я напишу письмо в часть, где служил Володя, они ответят, ничего скрывать не станут, скажут, где он и что он. И что случилось, и куда был ранен, а главное – адрес Володькин дадут.
Люда написала письмо в десантный полк и на какое-то время обрела спокойствие, стала самою собой – бледное, отекшее от слез лицо украсилось живой розовиной, глаза тоже ожили, из них исчезла тусклота. Болезненное выражение, плотно припечатавшееся ко всей ее надломленной фигуре, тоже исчезло. Она теперь жила ожиданием. Сходила к Есенковым узнать – может быть,