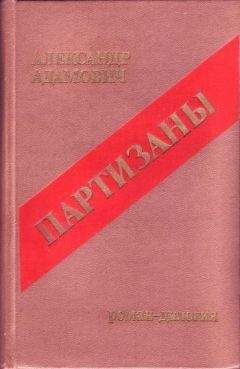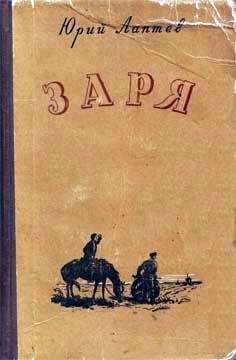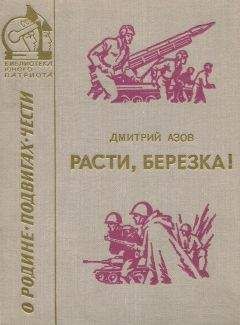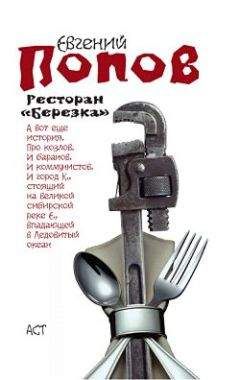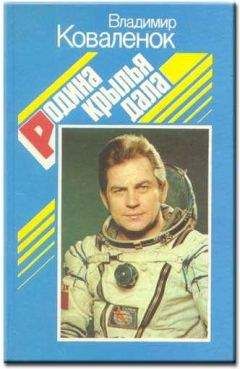…Сегодня один старик сказал мне: «Доктор, ноги все равно не живые, дайте мне весь кожух на руки, на глаза».
… Коренного ранило, весь посечен осколками, лицо обожгло. Крови много потерял, нашли только днем, а с ночи обстрела не было, давно, значит, лежит, Заглянул к нам Сырокваш, у него у самого рука подвязана. Все теперь такие худые, черные, глаза воспалены. Показала я осколки, а Сырокваш удивился и насторожился: «Это не снаряд. По-моему, граната». И даже пошел смотреть место, где нашли Коренного. Мохар тоже приходил. «О, санчасть как надо!» А у нас от санчасти только и есть что сладкий запах, даже мороз не съедает его. И удивился: «Кто это? Коренной? Ранен!»
Чем лучше этот человек относится ко мне, тем он неприятнее. Кажется, внушил себе, что после того, как я лечила его оцарапанную ногу, я – человек, достойный доверия. Очень удивляется, когда замечает, что я не ценю этого. Пришел как-то и предложил выделить «первоочередных» раненых – кого спасать, выносить обязательно, если прорвутся немцы. Я сказала, чтобы он ушел. И ничего. Пришел через два дня, как будто этого и не было. Такой же, как сейчас: говорит, улыбается, а сам о чем-то другом думает. Вот все добивается: приходит ли в себя Коренной, разговаривает ли в бреду, будет ли жить? А я знаю, какой Мохар друг Сереже, и не хочется мне отвечать. Ушел Мохар, сутулясь, втягивая голову, заплетаясь короткими ногами. Всех пришибла эта блокада.
Потом и я пошла к штабу просить, требовать для раненых хоть чего-нибудь. Раньше муки было немножко: разогревали руками снег и делали какую-то жижу, кормили раненых. Теперь, кроме снега, – ничего. Штаб – вроде нашей санчасти: две елки и втоптанный снег.
– Ничего нет, Анна Михайловна, – сказал Сырокваш, – вы же знаете. Будем прорываться, готовьте раненых.
Сказал мне это Сырокваш, и тут же Мохарю:
– Так вот, поведем следствие. Коренного хотели убить, это для меня – ясный день. А он теперь не просто Коренной, он связной от армии.
– Немцы хотели убить, если не ошибаюсь, – ухмыляется Мохар, но как-то очень неуверенно.
Смотрят друг на друга, один бледный, но все же ухмыляясь, другой – с бешеными глазами.
– Займется Кучугура, – вмешался Бойко, не поднимаясь с пня, – он, возможно, не ошибется.
– Вы что! – закричал Мохар, перестав притворяться– улыбающимся. – Ага, поня-ятно! Не очень забывайтесь. Я не вам подчинен. А Кучугуру вашего, хоть он контрразведка, самого проверить не мешало бы. Тоже окруженец, если не ошибаюсь. Всех потом на рентген! Партиза-аны!
– Ах, ты меня потом! – Здоровой рукой Сырокваш схватился за автомат. – Ну, так я теперь!..
Я стою, а Мохар за мной.
– Отойдите же! – кричит мне Сырокваш. Но Бойко стал между ним и Мохарем.
– Прекратите сейчас же! Дисциплину совсем развалить хотите? Разберемся потом.
– Разбере-емся, – пообещал Мохар.
… Непонятное что-то произошло. Боимся поверить. Ушли вдруг немцы. Кажется, и радоваться не осталось у людей сил. Костры разожгли, отогреваем раненых, детишек. А хлопцы уже видели наших, кричат, рассказывают. Ушла одна чернота, и на меня снова навалилась дума о моих детях.
Мы уже выбрались на дорогу. Наши, наша армия. Смеются все, плачут. И я. Хлопцы уже лошадей, розвальни добыли – для раненых. Идем вслед за машинами, ищем уцелевшую деревню, где можно было бы разместить больных. Пилатов увидел меня, приподнялся на санях: «Ничего, Анна Михайловна, все будет хорошо». А Сережа Коренной без сознания. Тяжело бредит, горит весь. Он еще там, откуда вышли все. И я с ним. Так больно за него. И за себя. Слышу, как офицер, остановив машину, спрашивает: «Партизаны? А почему женщина плачет? Сын ее?» А Верочка снова прибежала ко мне, глаза счастливые, спрашивает: «Помочь вам?» Девочка, чем ты можешь мне помочь?
Подошел к подводе Мохар. Говорит о каких-то пустяках, а убежала Верочка, он сразу:
– Мне надо знать, как высказывается Коренной в бреду. Это вам, так сказать, задание, Анна Михайловна.
– Да вы что, очумели?
– Должен вас предупредить, товарищ Корзун, что нам все известно. Вот вы скрыли, что отец ваш раскулаченный. Конечно, конечно, вы хорошо повели себя в трудный для Родины час. И сыновья ваши хорошо воевали. Но все-таки факт, а факты, как известно, упрямая…
– Я вам и еще не сказала.
Вот сейчас выскажу – и пусть! И пусть!
– Что?
– Что вы неисправимый и вредный дурак.
– Это мы теперь посмотрим, кто какой.
И пошагал. Как вышли из блокады, он даже распрямился. Весь вид будто и говорит: «Посмотрим теперь!»
…Пятый день мы отдыхаем. Так непривычно это – улица, колодец. Под раненых почти все дома заняли. Варим, жарим для них. К колодцу мне нравится ходить. Но, видно, слабею я от отдыха: вначале полведра воды для меня легче было.
А как смотрели на меня красноармейцы и хозяйка, когда я столовой ложкой соль ела!
Что-то Верочка догоняет меня. Подбежала, чуть ведро не опрокинула. «Смотрите, кто идет, Анна Михайловна! Это не муж ваш?» На кого она показывает? Бойко идет и какой-то высокий солдат в короткой шинели и обмотках. Но сердце так заколотилось от слов Верочки: муж, Ваня! А что я сказала бы ему? Он сразу спросил бы о детях. Почему так улыбается комиссар? И знакомое что-то в солдате. Федор, брат!.. Подошел, стал, ищет что-то в карманах: «Сейчас, Аня, сейчас, письмо от Алеши…»
Мне нельзя шевелиться, я ничего не должна делать, а то все изменится и будет неправда. Нет, я не сплю, боже, как это будет жестоко, если мне и это только снится! Но почему он не показывает письмо? «Ну, вот, забыл, что мне его не дали, только прочел. Был в Лесной Селибе, письмо на почте от Алеши. А зачем плакать? Пишет Алеша, что Толя за фронтом… Ну, ничего, ничего, все уже позади».
А Бойко заспешил: «Сейчас пошлю хлопцев, привезут».
…Читаю стертые карандашные строчки, каждая торопливая буковка – это Алеша, это возвращение всего. А в хате полно партизан, за столом сидят, но больше стоят, угощаются и все до одного кричат. Федора заставляют пить, и он пьет, хотя до войны в рот не брал. А разведчики все рассказывают, как примчались в Лесную Селибу, как им не давали письмо и как они схватили его. «Одна старуха, такая к земле пригнутая, очень радовалась, что вы живы, Анна Михайловна. Медку, говорит, ей приготовила». Медку! Знали бы они каким «медком» едва не накормили эти Жигоцкие! Но об этом, о них не хочется ни думать, ни говорить. Ведь письмо от сына у меня.
«Здравствуй, мама!
Хотел не писать, пока война не кончится. Чтобы не хоронила меня два раза. Поплакала раз, успокоилась, и ладно. Но меня в ногу легко ранили, теперь я в госпитале и потому пишу. И еще встретил тут Головченю, а он про Толю знает, видел его за фронтом. Малечу даже в армию не взяли, только осенью призовут.
Про себя писать особенно нечего. Немного поутюжили нас танками и взяли, но мы не признались, что партизаны, выдали себя за мобилизованных. Я и фамилию себе другую выдумал. И хорошо, а то дошел до бургомистра Хвойницкого слух, что твой сын в лагере, специально примчался в город. Всех построили, искали, но мне повезло: лежал в тифозном бараке. Да, мама, помнишь военнопленных, которых ты в аптеке кормила? Узнали они меня и, когда я после тифа поднялся, принесли мою пайку хлеба за целый месяц. Прятали. А очень хотелось есть. Потом мы убежали, пристали к партизанам, потом влились в армию. Расскажу все, когда встретимся. Получишь от Толи письмо, пошли ему мой адрес. А может, и папа напишет. Будь здорова!
Алексей».
Какая я счастливая, мне даже страшно…
1950, 1960–1963
Александр Михайлович Адамович родился в 1927 году в деревне Конюхи Слуцкого района Минской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было четырнадцать лет, и он, как большинство его ровесников, закончил семь классов школы. В первые же дни войны рабочий поселок Глуша, где жил тогда с родителями Александр Адамович, был занят гитлеровцами. Началась жизнь в оккупации. Жизнь такая страшная, что вряд ли могла привидеться даже в кошмарном сне. В эти дни кончилось беззаботное, радостное детство белорусского паренька Алеся. «Новый порядок», который установили оккупанты, не оставлял места ни для любимых занятий поэзией и чтения книг, ни для ребяческих забав: жить можно было, лишь стиснув зубы, мечтая о мщении, надеясь на победу Красной Армии и скорое освобождение.