Башенный стрелок Тюрькин был убит сразу, тем снарядом, осколки которого остались в ноге Сергеича, и сгорел вместе с Дмитрюком.
— Вот как они погибли, а я живу... — рассказывал Сергеич. И в голосе его звучал упрек самому себе.
Алеша в эти минуты думал о брате, которого живым не видел. И не увидит. Брат лежал в далекой могиле, в чужой земле, называющейся неласково — Померания. «Проклятое место, — говорила мать, — По-ме-ра-ния... Специально, чтобы помирать... Сколько там их! Косточек не сосчитаешь...»
Какой бы рассказ о войне ни приходилось услышать маленькому Алеше, а позже прочитать, во всех историях у него был один герой — брат Петр. Его воображал он стреляющим в бомбардировщике, сидящим в танке.
Тогда, после рассказа Сергеича, Алеше приснилось: человек горел в танке, и это был брат. Он едва дождался утра, прибежал, спросил:
— Как же так вышло, дядя Сережа, что наш танк подожгли?
Ему хотелось, чтобы никогда не было ни смерти брата, ни смерти Дмитрюка.
— Так ведь у них тоже были «тигры», а не кутята, — ответил дядя Сережа.
И опять начал кричать, рассказывая о победах своего экипажа.
С огорода подошла Анна Матвеевна; поставила рыжие от навоза ведра.
— Убилась! — И закурила, стоя на коротких ногах, обутых в сапоги. — А ты, голуба моя, все бах, бах? Язык-то не болит? Мозоли уж небось на нем от этой самой войны! Лучше научил бы, любонька, мальца грядки полоть... Он бы мне подсобил!
Дядя Сережа посидел, ухмыляясь, вздохнул и горько сказал:
— Сучкова сама научит.
— Нау-у-учит, — тут же пропела Анна Матвеевна, чадя папироской. — Она хозяйка! У нее клубника так клубника, огурец так огурец! А у нас, заинька? А у нас? Эх, горе!
— Ну и пусть себе! — огрызнулся Сергеич.
И в этом его злом пренебрежении к огурцам вдруг послышался Алеше непонятный тогда вызов. Пусть себе! Анна Матвеевна засмеялась:
— Ах, голуба, ах ты, заинька моя!
Дядя Сережа не хотел работать в огороде. Он мог починить керогаз и ходики, ручные часики и даже бормашину зубному врачу Богме, отцу кудрявой девочки Нади, которую мать последние годы прочила Алеше в невесты. Всегда была суровой, а о ней заговаривала — заискивала.
Богмы жили на краю слободки, у самой реки, в каменном особняке, похожем на дачу. Его так и называли — дача, и маленький Алеша запомнил: дача прочная, красивая, с большим участком, а в просторных, как небо, окнах всегда полыхает солнце — с одной стороны утром, с другой вечером... Сам Богма, Андрей Никифорович, не только ездил в городскую поликлинику, но и на даче держал кабинет. Еще стучала там швейная машина, которую чинил и смазывал дядя Сережа. Все слободские, старые и малые, лечили у Андрея Никифоровича зубы, все шили у его жены, Софьи Михайловны, рубашки, платья и фартуки. Старшая дочь, Вера, сидела возле матери в блузке, утыканной иголками с нитками, держала на коленях лоскутки...
У матери, Сучковой, чуть ли не все зубы были стальные. Улыбнется — заводской механизм, озноб берет. Но она редко улыбалась, хотя и гордилась своими зубами и была довольна тем, что они не влетели в копеечку — со слобожан Богма брал по-божески. А ходила мать на дачу чаще других, за тем, за другим, вела знакомство...
Дядю Сережу Алешина мать презирала, потому что он был сумасшедший, совсем ничего не брал с людей. Ни за керогазы, ни за часики. Отталкивал от себя руки с бумажками, протянутые к нему. Сначала слобожане обижались:
— Мы не нищие!
Дядя Сережа улыбался так, что наружу выкатывались влажные десны, и объяснял:
— У меня к вам симпатия!
А мать Анки при этом восхищалась, любезничая с ним:
— Ой, голуба! Сил моих нет, помру я! Ой, заинька!
И Алешу радовала и манила эта ее ласковая манера разговаривать с дядей Сережей. Дома он такого не слышал. В то время он считал Анну Матвеевну лучшей женщиной в слободке, а может быть, и во всем мире.
Когда дядя Сережа впервые починил и отрегулировал у Богмы закапризничавшую бормашину и заменил моторчик, тот предложил ему:
— Хотите, научу вас золотые коронки отливать! Дельце тонкое, но у вас — руки!
— Не хочу.
— Почему же? — поразился Богма, дыша, как бегемот, и придавливая живот руками, будто он мог от этого стать тоньше. — Заработок я вам гарантирую, дорогой человек!
Дядя Сережа повернул к Богме голову и смотрел долго.
— Не хочу, — повторил он, — это не по моей части.
— Сколько ж я вам должен? — спросил удивленный Богма.
— А нисколько.
— Хм!
— Я для интереса.
На этот раз дядя Сережа не улыбнулся и не сказал: «У меня к вам просто симпатия».
В тот день Алеша вместе с Анкой купался в реке, там, где между дачей Богмы и слободкой до сих пор белеет на жарком солнце вытоптанный, выгоревший пляжик. Анка впервые оказалась не в трусиках, а в синем купальнике, обтянувшем ее тонкое тело.
— Ну как? — спросила она, поворачиваясь. — Смотри!
Алеша рассмеялся по-козлиному.
— Как сосиска!
— Сам ты сосиска!
Анка обиделась и, накупавшись, не побежала в кусты переодеваться, а натянула платьишко прямо на мокрый купальник и торопливым шагом ринулась домой. Алеша едва поспевал за ней, на ходу управляясь с брюками. Во дворе Распоповых метался чей-то голос, резкий и зычный, свирепствовал, клокотал.
— Коронка же! Золотое дело! Ирод!
Алеша не понял сразу, что это Анна Матвеевна орала, даже не подумал о ней. Анка рывком повернулась к нему, и он на какой-то миг перестал слышать надсадный голос из открытого окна, а смотрел на два таких неожиданных мокрых кружка на груди. Анки.
— Уходи! — крикнула она.
Но он и этого не услышал, только повернулся и застыл.
— Уходи! — повторила Анка тише, почти шепотом.
Но он стоял.
— Дармоед! — кричала Анна Матвеевна, ругаясь по-мужски. — Привезла хозяина! Симпатия у него ко всем! Ишачит на людей!
Это на дядю Сережу она так?
...Она привезла Сергеича в слободку на извозчике. Встретились в поезде, разговорились, вроде бы в шутку, но она ссадила его в городе. Сейчас извозчиков не увидишь, а в ту пору, сразу после войны, были в городе извозчики. Два или три... Вот Анна Матвеевна и посадила инвалида в фаэтон...
И выглядело все это до того дня, той минуты ласково и даже романтично. Алеша ходил любоваться на их жизнь. Зачем же она сейчас так ругалась? Алеше хотелось зажать уши...
А дядя Сережа смеялся...
— Чего смеешься-то? — раздалось из распахнутого окна. — Дураку все смешно!
Алеша оглянулся, ища защиты у Анки. Но Анки не было. Анка закрылась в сарайчике, и, может быть, дядя Сережа услышал ее визгливый плач оттуда и оборвал жену:
— Цыц!
А она пригрозила:
— Я тебя бить буду!
Да она ли это? Вот тебе и заинька... Вот тебе и голуба...
— Давай лучше вместе в земле копаться, — предложил, сдаваясь, дядя Сережа.
И Анна Матвеевна сразу затихла.
В огороде дяде Сереже мешала деревянная нога, она проваливалась в рыхлую землю. Все земля теперь между грядками была истыкана его деревяшкой.
Анна Матвеевна ласково приказала ему как-то:
— Проси протез, заинька. Тебе полагается. Требуй!
Он печально посмотрел на жену, долго сворачивая цигарку.
— Мне и так хорошо...
— А делу плохо. Гляди на землю, голуба!
— Я себе пятку приспособлю.
И правда, вырезал Сергеич для своей деревянной ноги «пятку» из доски — такой кружок размером с тарелку, просверлил в «ноге» дырку, чтобы крепить эту пятку стопором из гвоздя... Протеза он не пошел просить... От самого слова «просить» его коробило.
Но однажды вызвали в город — открытка пришла, и домой Дядя Сережа вернулся с грохотом, на автотележке.
— О! Стучит! — победно кричал он, прибавляя газу, и бил себя кулаком по сердцу. — Молоток! О!
— Дыхни! Дыхни, заинька! — подступала к нему с разных сторон жена.
А дядя Сережа смеялся, отвечая:
— А как же, Аня... Я же не один воевал... Раздушили бутылочку!
— Не одну, похоже!
— Ну, две!
На этой тележке дядя Сережа катал и Анку и слободских мальчишек. «Садись, мошкара!» И они облепляли тележку, стучащую внутри, и тележка рвалась с места, как конек-горбунок.
Как-то дядя Сережа выкрасил свою тележку в небесный цвет, а красил из специальной штуки с бачком, и называлась эта штука пистолетом. Алеша смотрел, как пылит из дульца краска и ложится на железо небесным блеском. Он выбрал тогда себе первую профессию. Будет красить машины...
Для «пистолета», одолженного у какого-то знакомого с автобазы, дядя Сережа достал баллон газа, продавщица газированной воды расщедрилась, и Анна Матвеевна кричала, что проломит ей голову, едва найдет, а не найдет, так пойдет ломать всем продавщицам подряд, на всех углах... А дядя Сережа опять смеялся: ему нравились и цвет тележки, и пронзительный запах краски, он был настроен весело и шутил:
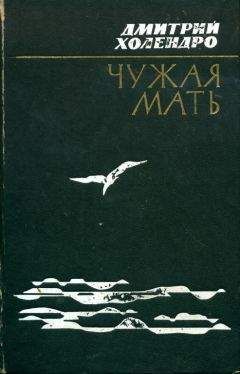

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)