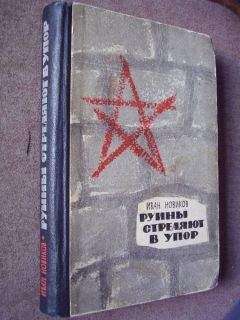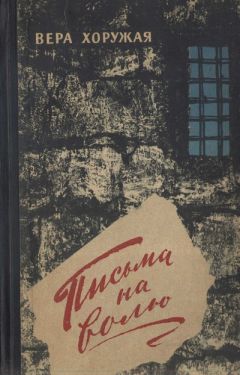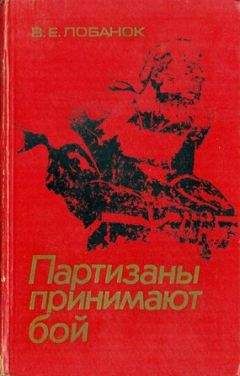— Ты долго будешь копаться? — крикнул гестаповец.
Георгий Павлович даже не пошевелился.
— Все снимать! — заревел следователь.
И это не помогло.
Тогда два конвоира и переводчик схватили Сапуна и силой стали раздевать его, разрывая на нем одежду.
Георгий Павлович отбивался руками, ногами, головой. Каждая клеточка его тела сопротивлялась насилию.
Но борьба была неравной. Сапуна положили на станок и крепко привязали ремнями. Привязали так, чтобы каждый мускул был натянут, напряжен. Кровь из носа и рта заливала лицо.
— Теперь ты у нас заговоришь... — злобно крикнул переводчик.
Били резиновыми палками. Палачи знали, каким способом быстрее вызвать у человека нестерпимую боль. Георгию Павловичу казалось, что на спине у него разложили огромный костер и все время подбрасывают и подбрасывают в него порох. Чтобы хоть чем-нибудь отвлечь внимание от жуткой боли, считал удары. Помнит, что насчитал шестьдесят три и провалился в небытие.
Очнулся на том же станке. И его снова били. Много раз били. Сколько? Запомнить не смог. Он уже прощался с жизнью. Все казалось нереальным, будто во сне. А очнувшись, снова видел перед собой палачей, которые что-то гнусавили, а потом начинали странно покачиваться из стороны в сторону и, оторвавшись от земли, куда-то летели, размахивая плетьми, как крыльями.
Опять очнулся, уже на полу возле станка.
Первое слово, которое невольно вырвалось из пересохшего горла, было: «Пить!» Перед глазами возникла стремительная река, вода в ней переливалась на солнце всеми цветами радуги, тихо журчала. Но дотянуться до нее Георгий Павлович не мог. Стоило ему пошевелиться, как внутри с новой силой вспыхивал огонь и река отдалялась, исчезала... Это была галлюцинация.
— Пить!
От стола поднялся следователь со стаканом чистой воды. Подошел, протянул к лицу Георгия Павловича. Тот жадно припал к стеклу, глотнул раз, другой, и... перехватило дыхание. Горло будто опалило, глаза полезли на лоб. Гестаповцы хохотали.
— Пей, свинья, тебе милость оказывают, спирт дают, пей!
Через минуту еле живого Георгия Павловича подхватили под руки и потащили на стул, напоминавший кресло в зубоврачебном кабинете.
— Теперь ты наверняка заговоришь!
Электрический ток побежал по телу. Неведомая сила начала крутить, ломать руки и ноги.
— Говори!
А он, если бы и хотел что сказать, — не мог.
Наконец пытки закончились, его сняли с кресла. Только ноги не выдержали, подкосились, и человек, которого несколько часов назад трое гестаповцев с трудом привязали к станку, теперь сам упал на пол. И тогда его начали топтать ногами и снова били. Наконец бесчувственного выбросили в камеру № 5.
Там сидели еще четыре человека. Двое из них — Герасименко и Барановский — были подпольщиками.
Товарищи смочили одежду Сапуна водой и посадили его спиной к цементной стене.
— У нас свой метод лечения, — говорили они Георгию Павловичу, начавшему приходить в чувство. — Цемент уменьшает боль. Это единственное средство лечения, которое нам здесь доступно.
В подвале СД нашлось много знакомых. Арестованные по делу подпольного комитета Алена Шумская и Оля Курильчик, разносившие баланду по камерам, рассказали, где кто сидит, кого еще арестовали, кто как переносит пытки.
— Короткевич спрашивает, как вы себя чувствуете, — тихо спросила Сапуна Шумская, передавая ему консервную банку с баландой.
— Передайте, терплю. И держусь, как он.
— Это еще ничего, — утешал Микола Герасименко. — Меня три раза откачивали, и, как видишь, выжил. Еще и на виселице болтаться буду.
На четвертый день Сапуна снова повели на допрос.
— Говори, бандит, кто давал тебе письмо в ЦК?
— Никакого письма я не знаю, — спокойно ответил Сапун.
Снова начались пытки. Но как ни били — ничего не узнали. На этот раз до камеры Сапун дошел сам.
Тянулась бесконечная ночь. О смене суток говорило только то, что в восемь часов выпускали в уборную. Все остальное время жили в абсолютной темноте.
После восьми часов вечера внешняя дверь камеры запиралась на замок, и заключенные начинали потихоньку перестукиваться. Проверяли, кто жив и кого уже нет.
А то вдруг из-за сырой стены долетала медленная задушевная песня. Она звучала для всех и за всех. Только человек с могучей волей к жизни мог петь в этом пекле, на краю гибели.
— Костя, — с любовью и уважением говорили узники.
А он пел так, чтобы слышали только свои, те, что после пыток страдают в темных, сырых каменных мешках.
Костя Хмелевский и тут оставался самим собой. Его мучили, может быть, больше всех. На двое суток привязали к стене и били непрестанно, методично, с немецкой пунктуальностью. Били резиновыми плетьми, били ногами. А он только бросал на палачей злобные взгляды и молчал.
«Что ж, не я один здесь страдаю, — стоя у стены, утешал он себя. — Весь народ наш терпит...»
Несмотря ни на что, он еще надеялся, что выживет. Может быть, эта жажда жизни и спасала его и заставляла изливать свои чувства в песне.
Среди арестованных была одна партизанка из Логойска. Ее мужество изумляло и восхищало многих.
Она, видно, никогда не знала страха. И попала в лапы фашистов совсем случайно.
— Ночью мы напали на один немецкий гарнизон, — рассказывала она. — Эх, и дали мы тогда жару фашистам! А на рассвете фрицы получили подкрепление, и наши вынуждены были отступить. Чтобы прикрыть отход товарищей, я осталась на окраине местечка. Сама осталась, командиру даже не сказала. Влезла на крышу одного дома и жду, пока подойдут гитлеровцы. А когда они были уже совсем близко, начала косить из автомата. Много полегло их. И вдруг замолк мой автомат. Что с ним сталось — сама не знаю. Никогда не подводил, а на этот раз заело. Ну, они и налетели, схватили. Били чем попало и сколько хотели. На допросе я не отказывалась. «Да, говорю следователю, я собственноручно убила около десяти фашистов. И еще больше бы убила, если б не заело автомат». А чего отказываться? Меня все равно расстреляют. Так лучше, если сразу...
После очередной пытки женщина начала стучать в дверь, пока не пришел начальник охраны.
— Я требую медицинской помощи! — решительно сказала она. — Не имеете права отказать в медицинской помощи!
Начальник охраны, ничего не сказав, исчез на несколько минут. Потом пришел, но не один, а с конвоирами. Женщину вывели в коридор. Сразу же послышались выстрелы. Все заключенные молча, как по команде, встали и сняли шапки...
В начале декабря 1942 года в подвале СД началась «разгрузка».
Кого куда ведут — никто не знал. Следователи вызывали узников партиями и направляли под охраной из помещения. Фройлик громко читал:
— Ковалёф! Короткевич! Хмелевский! Никифороф! Герасименко! Шугаеф! Сапун!
Все это — члены и активисты Минского подпольного горкома. Куда же их поведут, если не на расстрел? В те минуты каждый, прощаясь с жизнью, жалел только, что мало довелось сделать для любимой Родины. Узники вышли из своих камер с высоко поднятыми головами.
— Смерть так смерть, — спокойно сказал Герасименко и бросил под ноги тюремное одеяло. — Так будет легче умирать.
Когда все вышли, Костя Хмелевский и Змитрок Короткевич многозначительно переглянулись с товарищами: «Держитесь, хлопцы, с достоинством, как коммунисты!»
Только изнуренный болезнью Шугаев и угрюмый Ковалев стояли низко опустив головы.
В закрытом «черном вороне» их везли недолго. Вскоре машина остановилась. Когда вылезли — увидели тюремный двор. Значит, пытки не кончились. Их еще раз обыскали и поставили лицом к стене. Один из гестаповцев начал бить Ковалева ногой и с наслаждением приговаривал: «Тофариш Кофалёф, секретарь ЦК».
Неторопливая процедура регистрации окончилась, и семь узников были отведены в подвальную камеру № 10.
Вспоминая об этом, Георгий Павлович Сапун, единственный из всех, кто остался жив, рассказывает:
— Камера была совсем пустая — только голые стены. Стекло в окне выбито. Стены и пол так настыли, что дотронуться до них было нельзя.
Когда мы очутились одни, без надзирателей над головой, вначале даже растерялись, а потом бросились обнимать друг друга, трясти, радовались, будто дети. Даже шутили:
— Что же это они, сволочи проклятые, перед тем, как вешать, думают замораживать нас?
— Пахнуть меньше будем, — ответил кто-то.
— Даже в подвале гестапо и то было лучше.
— Тогда попросись туда обратно.
Почти все были одеты по-летнему, в одних только костюмах, а некоторые даже без нижнего белья, которое сгнило от гноя на ранах. У Ковалева, Короткевича и Никифорова не было даже носков, ботинки надеты на босу ногу. Короткевич не имел шапки. Следователь во время допроса истоптал ее так, что остались одни клочья. Все обессилели. А на дворе стояли лютые декабрьские морозы. Легко представить, какая была у нас перспектива.