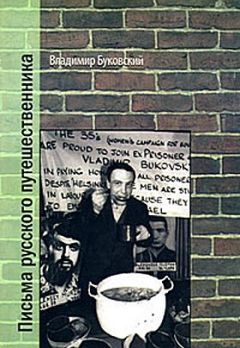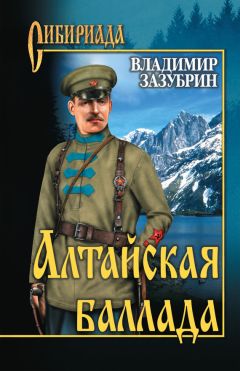Барановский засмеялся. Востриков, улыбаясь, говорил:
– Вот и смейтесь, любуйтесь – перед вами монгольский подданный, студент института восточных языков, человек, которого никто не смеет побеспокоить и который преблагополучно делает оборот в два миллиона рублей в день.
Профессор счел долгом пояснить офицеру:
– Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич – человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант, и все.
Востриков смотрел на Барановского мутным, прицеливающимся, взвешивающим взглядом старого торгаша, тряс головой.
– Нет, поручик, я хочу сказать вам всю правду. Вы вчера только училище кончили, полны, следовательно, самого пустого мальчишеского обалдения и глупой радости. Вы сейчас все в розовом свете себе представляете. Так вот знайте, что торговли у нас нет, крупного порядочного товарообмена нет, есть только мелкие спекулятивные сделки, есть крупные аферы, которыми не брезгуют даже министры, вот и все.
Нет, вы подумайте только, поручик, какая у нас может быть сейчас торговля, товарообмен, как может наладиться хозяйственный аппарат, когда у нас, что ни шаг, то верховный правитель, атаман; каждый требует с тебя – дай. Каждый за малейшее ослушание карает, как изменника – кого, чего – ему неизвестно. Гм, торговля, промышленность. – Востриков желчно засмеялся. – Разве я могу получить хоть вагон товара без толкача? Никогда. Я должен ехать сам со своим грузом и толкать, проталкивать его через каждую станцию. Японцам – дай. Семеновцам – дай. Железнодорожникам до стрелочника включительно – дай. Не дашь – не поедешь. Тысячу рогаток поставят. А семеновцы так просто товар заберут. Каждый раз едешь и не знаешь, довезешь или нет? Разоришься или наживешь? Но когда я прорвусь через все преграды, привезу товар на место, тут уж, извините, процентик я наложу не по мирному времени. Я рискую, я и беру. Сто, двести процентов мне мало, я накладываю четыреста, восемьсот, тысячу. Я вздуваю цены до последней возможности.
– Но ведь это же не… не… хорошо. – Барановский хотел сказать – не честно, но не мог. – Зачем вы так делаете? – наивно спросил он спекулянта.
Востриков расхохотался.
– Ну и дитятко же вы, голубчик! Нехорошо! Поймите, что я коммерсант со дня рождения, по натуре коммерсант. И если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать. Будем приспосабливаться. Не сидеть же сложа руки, когда дело к тебе само лезет.
Профессор закурил сигару. Барановский сидел, беспокойно посматривая на Татьяну Владимировну. Ему не хотелось поддерживать разговор с Востриковым, он мечтал провести последние часы перед отъездом наедине с любимой девушкой. Офицер нервно вертелся на стуле. Сыр ему казался пресным, масло горьким, кофе недостаточно крепким. Часы на стене отчетливо и гулко пробили два. Офицеру скоро нужно было уходить. Татьяна Владимировна заметила его тоскливый, беспокойный взгляд.
– Вам, Иван Николаевич, кажется, уходить скоро? Пойдемте в сад. Я хочу показать вам в последний раз наши цветы.
Подпоручик покраснел, смутился, вскочил со стула, чуть не опрокинул свой стакан. В саду Татьяна Владимировна усадила Барановского на широкий зеленый диван перед большой круглой клумбой.
– Иван Николаевич, я хочу поговорить с вами серьезно.
– Ради Бога, я всегда готов вас слушать.
– Вы должны не только слушать меня, но и слушаться.
– Слушаюсь, Татьяна Владимировна, слушаюсь.
– Если вы хотите, чтобы ваша Таня была счастлива, – идите на войну. Вернитесь оттуда или живым, или мертвым, но героем. Идите, если не хотите, чтобы грязные солдатские сапоги затоптали наш чудесный паркет. Если хотите, чтобы ваш кумир был одет достойным образом, в тонкие, нежные ткани, чтобы на его ножках были такие же башмачки, идите!
Татьяна Владимировна выставила острый кончик лакированной туфельки.
– Иван Николаевич, вы человек интеллигентный, вам дорого, несомненно, все, что создано веками работы поколений, веками работы мысли лучших людей, вам дорога наша культура. Ради спасения всего этого мы должны поставить на карту свою жизнь.
Татьяна Владимировна говорила горячо. В ее голосе звучали нотки гнева и глубочайшей веры в свою правоту. Барановский взял ее за руки. Девушка посмотрела ему в глаза.
– Вы любите эти руки? Вы хотите, чтобы они остались такими же нежными? Хотите, чтобы эти пальчики пахли духами, а не салом кухонных тряпок? Хотите?
Барановский молча целовал руки Татьяны Владимировны, жадно вдыхая запах духов и женской кожи.
– Прощайте, Иван Николаевич, вам время идти.
Девушка взяла офицера за голову, провела рукой по его щетинистой прическе, посмотрела в большие черные глаза, на пухлые губы со жгутиком пушка под мясистым носом, на ямочку подбородка и тихо, долгим поцелуем прижалась к его лбу.
– Идите. Профессору я передам поклон.
Барановский, опустив голову, пошел к калитке.
– Подождите, дайте на минутку мне вашу шашку!
Подпоручик остановился, с недоумением посмотрел на девушку, неловко вытащил из ножен клинок. Татьяна Владимировна на секунду быстро прикоснулась губами к черной рукоятке.
– Видите, я поцеловала ваш меч. Не опустите его, не продайте. Я буду вашей женой, когда вы с ним вернетесь из завоеванной Москвы.
На другой день офицерский эшелон отправился на фронт. Проводить уезжающих пришли родные, знакомые. Прибыл с блестящей свитой командующий войсками округа, приехали управляющий губернией, городской голова, шли офицеры, бывшие воспитатели окончивших училище. Проводы были торжественны. Представители власти выступали с речами. Командующий округом, пожилой генерал, говорил старые, избитые слова о долге перед родиной, о чести мундира. В заключение провозгласил ура за здоровье «обожаемого» вождя армии, адмирала Колчака. Офицеры, вымуштрованные за десять месяцев, собаку съевшие на ответах начальству, рявкнули дружное и громкое ура. Оркестр заиграл гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» [2] . Головы обнажились. После командующего выступал управляющий губернией, правый социалист-революционер Ветров. Ветров говорил долго, клялся, оставаясь в тылу, не покладая рук бороться с красной крамолой. Речь кончил, как и генерал, здравицей за диктатора. Офицеры, как по команде, деревянными, казенными голосами прокричали три раза ура. Вместо городского головы, кадета Ковалева, выступил представитель городского самоуправления – маленький, щупленький меньшевик Прошивкин. Он начал свой монолог торжественным заявлением о том, что меньшевики бдительно стоят на страже завоеваний революции и интересов рабочего класса, что они, меньшевики, давно бы привели пролетариат к полному освобождению, если бы не большевики, отодвигающие приход желанной свободы своими социалистическими экспериментами. Чем дальше говорил Прошивкин, тем больше вдохновлялся.
– Господа офицеры, – кричал он, – вы идете на славный подвиг! Вы идете на борьбу с комиссародержавием! Выше головы, господа офицеры!
Сотни белых кокард, золотых и защитных погон заискрились. Офицеры улыбались, откровенно насмешливо рассматривая худенькую, тщедушную фигурку оратора.
– Да преисполнятся сердца ваши гордым сознанием того, что вы идете за правое дело, за торжество идей равенства и братства, за освобождение трудящихся от большевистской каторги. Ура!
– Ура! Ура! Ура! – послушно кричали офицеры.
Погоны поблескивали на солнце. Некоторые с усталыми, скучающими лицами морщились, ворчали, что они вовсе не намерены драться за какую-то свободу. Представитель местного купечества Кулагин начал играть напыщенными фразами:
– Доблестные защитники Родины, с отеческой скорбью благословляем мы вас на тяжкий подвиг ратный. Идите, дети! Матери, жены и сестры ваши со слезами надежды провожают вас. Они будут ждать вас обратно победителями.
Подпоручику Петину надоели речи; он вышел из строя, пробрался через густую толпу провожающих на свободный конец перрона. К нему подошла его знакомая, институтка Тоня.
– Это вам, Андрюша, от меня, – сказала она, подавая офицеру букет белых роз. – Вы такой герой, такой храбрый – едете драться с большевиками и не боитесь!
Институтка смотрела на подпоручика ясными, восхищенными глазами.
– Вы победите их? Да?
Петин улыбнулся и, пощипывая верхнюю губу, говорил, что ничего страшного в большевиках нет, что скоро их, вероятно, совсем разобьют.
Кулагин кончил:
– Идите с Богом, защитники наши, знайте, что мы, оставаясь здесь, ничего не пожалеем для блага Родины. Заложим жен и детей, распродадим имения наши, но не сдадимся супостату. Ура!
– Ура! Ура! Ура!
Оркестр заиграл «Коль славен…». Все сняли фуражки.
Станционный сторож два раза ударил в колокол. Матери стали крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакали. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов стал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику.