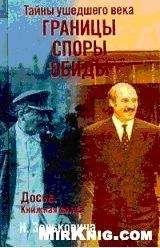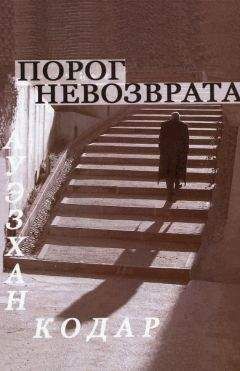— Молодцы, что к нам направились. Трудовые руки колхозу теперь позарез нужны.
Ульяна Павлиновна с упреком покачала головой:
— Вот он завсегда так. Будто нет у него ни души, ни сердца.
Евдокима Никитича ничуть не задел ее тон:
— Подумай-ко сама. Неужели я должен выть от их горя? Их отвлекать надобно от невеселых-то дум. А чем? Работой, делами. Лучшее средство. За делами они все свои несчастья позабудут. Плакать некогда теперь — фронту помогать надобно.
— Ты хоть сейчас-то для приличия пожалел бы, — твердила свое Павлиновна.
— Я, старая, ничего неприличного не сказал. А жалеть можно жалкого, они же вон какие орлицы. Им нас с тобой надобно жалеть — у нас век кончается.
— Тебя не переспоришь, — в сердцах махнула рукой Павлиновна.
— Я радуюсь, неразумная, что они живые-здоровые от смерти улепетнули.
— И я ж от радости… Ну и от жалости…
— То-то… Хватит, пожалуй, болтать, — подвел итог словесной перепалке Евдоким Никитич. — Лучше топите-ко баню. Опосля недосуг будет — сенокос подопрет…
Так Ольга стала своей в чужой семье.
Под жилье ей с ребенком отвели маленькую зимовку с двумя окнами в огород. Ольга попросила Ирину поселиться вместе с нею: за время скитания привыкли быть рядом — зачем уж теперь-то врозь? Та согласилась. Облюбовала для себя полати.
В тот же день у них перебывали многие родственники и соседи. Слушали Ирину, охали, плакали бабы и, не довольствуясь рассказом, расспрашивали обеих про бои и страхи, заставляли подробно повторять, чего нагляделись и натерпелись они за длинную дорогу.
Появление в доме маленького Саши вызвало большие хлопоты. Евдоким Никитич стащил с чердака закинутую до поры до времени расписную зыбку и подвесил ее в зимовке на скрипучий очеп. Ольге поначалу смешно было баюкать своего Сашеньку в этой чудной люльке, а потом привыкла, да и Саше она, должно быть, понравилась — спал в ней преспокойно.
Ульяна Павлиновна разыскала чудом уцелевший рожок, из которого она кормила молоком всех своих детей, и предложила Ольге, но та предпочла рожку обычную стеклянную четвертинку — гигиеничней, мол, — и Саша вовсю чмокал резиновую соску, с трудом раздобытую у соседей.
В Ольге сразу подметили талант портнихи, и, так как Павлиновна за свою жизнь не научилась шитью, старенькая швейная машина «Зингер» из летней избы быстро переселилась в зимовку. Ольга хоть шитьем могла отблагодарить добрых хозяев. На первых порах сшила она Павлиновне городского покроя ситцевое платье — отрез не один год лежал в сундуке; Евдокиму Никитичу смастерила выходную сатиновую рубаху; юбку и кофточку сшила Ирине — та помогала обметывать швы и петли. Успела выстегать лоскутное одеяло Саше. Все это — до сенокоса. А в сенокос ей уже начисляли трудодни: она вместе с колхозницами ворошила на пожне сено, укладывала его в копны, стояла на стогу во время метки, — одним словом, привыкала к сельским делам.
Саша днем был в детском садике под надзором старушек-нянек, куда вели и несли ребят всех дошкольных возрастов. Дети постарше играли во дворе, сосункам была отведена изба.
За сенокосом подоспела уборка урожая. Даже и дня передышки не было. Ольга вязала снопы за жаткой, крючила горох, теребила лен, копала картошку, трудилась на молотьбе. Не сразу и не все получалось у нее складно, порой своим неумением вызывала безобидный смешок колхозниц, а чаще удивляла их ловкостью, с какой спорилось в ее руках любое незнакомое ей дело.
Но однажды Ольга все же подкачала.
Как-то на втором месяце ее жизни в деревне занедужилось Павлиновне. Лежала на печке, ворочалась с боку на бок, выгоняла хворь. Ольга в тот день пораньше дернулась с поля — готовила на всю семью обед. Обедали они обычно все вместе в передней избе. Ели из одного эмалированного блюда. Еда была сытная, но по-деревенски простая: варились щи, каша или жарилась яичница, на верхосытку — кринка молока. Ольга же умела изготовить и суп отличный, придумывала на второе то запеканку творожную, то мясные биточки с овощами, то еще что-нибудь необычное. А угождала она больше всего закуской. Натрет ли редьки с морковью, приправив постным маслом, сделает ли из зеленого лука с яичком салат, нарежет ли ломтиками помидоров и украсит колечками репчатого лука — все всем правилось.
В этот раз Ольга приготовила винегрет. Евдоким Никитич ел да похваливал. Ульяна Павлиновна тоже сидела за столом.
— Учись, старбень, — говорил он ей. — Век доживаешь, а ни разу обедом вкусным не накормила. Вот ведь тот же продукт, можно сказать силос, а сделано — объеденье!
Павлиновна, конечно, огрызнулась:
— К лешаку! Поздно мне переучиваться. Возьми переженись. Теперь это модно. Молодая во всем угодит…
Евдоким Никитич останавливал:
— Э, понесла! Ей про Фому, а она про Ерему.
Ольге было неловко: она стала причиной сердитого разговора за столом. Чтоб как-то сгладить, сказала:
— Не хитрое дело — обед готовить, когда есть на чего.
Евдоким Никитич подхватил:
— Вот и я говорю: пускай перенимает, учится.
— Да хватит вам, поешьте спокойно, — вмешалась Ирина.
Павлиновна отложила в сторону ложку:
— Я что-то ничего не хочу. Пойду прилягу опять.
Пропотеть — прошло бы. — Залезла до крутому скрипучему приступку на печь, вздохнула: — Вот корову не знаю, подою ли…
Евдоким Никитич подобревшим голосом распорядился:
— Оставайся здесь, Ольга, обряжайся. Мы с Ариной вдвоем управимся.
Ольга мыла посуду, прибиралась.
Подошла пора дойки коров, Павлиновна подала голос с печки:
— Оленька, ты уж обряди сегодня Пеструху-то. Ох, кто только придумал хвори всякие! Подойница-то, Оля, под лавкой. Сполосни. Тряпочкой сыренькой не забудь вымя обтереть.
— Все сделаю, Ульяна Павлиновна, отдыхайте, — откликнулась Ольга.
Она, заслышав помыкивание Пеструхи, завернувшей во двор, когда пастух гнал стадо улицей с луга на поскотину, тотчас вышла навстречу ей с подойником. Еще с крыльца, подделываясь под голос Павлиновны, Ольга звала Пеструху:
— Иди, моя хорошая, домой, иди! Кормилица ты наша… Пеструха… Ишь как тяжело тебе! Сейчас подою. Иди сюда. — Дала ей посыпанный солью кусочек хлеба, чистой тряпкой обтерла тугое вымя и, поставив на землю подойник, уселась под корову на корточки. Брызнули звонкие струйки.
Длилась дойка недолго. Пеструха, дожевав хлеб, брыкнулась и опрокинула подойник. Молоко белой лужицей разлилось по земле.
— Да что с тобой?.. Милая… Пеструха… Стой, тебе же легче будет, — уговаривала Ольга корову ласковыми словами, какие обычно говорила ей хозяйка. И снова принялась теребить соски. И опять лягнула корова подойник. — Ты что ж, не узнала меня? Как тебе не стыдно? А ну, стой смирно! — Несмотря на этот строгий тон, в третий раз загремел подойник.
Назавтра утром, придя к колодцу за водой, Павлиновна через плетень рассказывала соседке:
— Смехота с нашей горожанкой-то. Вчерась занемогла я. Попросила подоить Пеструху. Не отнекивалась, пошла. А я лежу на печке. И взяло меня беспокойство: долгонько что-то нету ее. Не вытерпела, слезла. Смотрю с крыльца — валяется подойница в стороне, а Ольга стоит и чуть не плачет. «Что, — спрашиваю, — стряслось?» — «Лягается», — говорит. «Сроду не лягалась, а у тебя лягается. Смиреная, — говорю, — корова-то». — «Разве я вру, — хнычет, — попробуй сама, узнаешь». — «Ну-ко, садись, — говорю, — я погляжу». Уселась! «С какого боку села-то, недотепа?»- спрашиваю. А она бормочет: «Не все ли равно, с какого садиться». — «Правильно и делает Пеструха, что лягается, — говорю. — И тебя-то надо бы лягнуть». С левого боку вздумала корову доить. Смехота!
Скоро — через соседку — весь колхоз знал, как Ольга доила корову. Женщины от души хохотали. Колхозница уже с другого конца деревни, повстречавшись с Павлиновной, потешалась над Ольгиной неудачей:
— Рассказала бы, Павлиновна, как твоя постоялка, лейтенантша-то, вместо коровы под быка с подойницей уселася.
Павлиновна вскипела:
— Ты что городишь?! Кто это наплел тебе такое? А?.. Да любая из наших баб не сдюжит с ней в деле тягаться, с Ольгой-то. У ней ничто из рук не валится — кажинная наша работа складно идет. Вот тебе и городская.
Потом и свою соседку отчитала за сплетню:
— Я ж тебе по простоте душевной, а ты по всему свету ни за что ни про что охаяла бабу. Гляди-кось, как все перевернули! Быка доить уселася… Ох, и злые языки!..
Павлиновна рассказала эту историю и Евдокиму Никитичу. Тот махнул рукой:
— А, все вы — пустомели!..
* * *
Шли дни, недели, месяцы первого военного года. И хотя далеко было от «Авроры», от этого рядового колхоза, до любого фронта — на юг, на запад или на север, но жил он не обычной жизнью. Ничего в ней и похожего не было на недавнее мирное время. Вникнуть ли в колхозные дела, всмотреться ли в лица людей, заглянуть ли в душу им — все было освещено тревожными, грозными сполохами большого бедствия, постигшего родную страну.