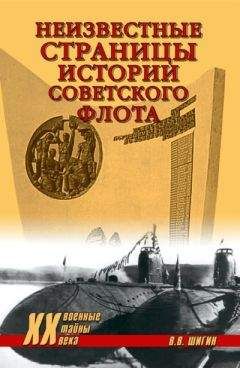— Точно, товарищ майор! — не выдержал я. — По себе знаю!
Майор Добротин около месяца пробыл с нами в госпитале, потом его отправили на окончательное излечение в тыл. В последний вечер майор показал нам два письма, которые он хранил в одном конверте. Первое письмо, от жены старшего лейтенанта Лебедева, пришло из Баку. Лебедева благодарила майора и всех разведчиков за заботу и внимание к ней.
«Вы просите меня быть стойкой, — писала она. — Об этом и Жора просил меня в своём последнем письме. Вот его слова: «Идёт второй месяц войны. Я верю в жизнь и в нашу победу. Ты — жена советского разведчика. У тебя должно быть спокойное и храброе сердце. И чтобы наш малышка никогда не видел слёз в твоих глазах… Помнишь, когда мы только познакомились, твоим героем был Овод. Ты восхищалась его стойкостью и верностью. И ты часто повторяла строчки, которыми он закончил своё последнее письмо любимой женщине: «Я счастливый мотылёк, буду жить я иль умру…» Майор оборвал чтение.
Я не решался поднять головы, чтобы не заметили моего волнения. Я помнил роман «Овод» и эти строки. И ещё я не забыл, что говорил мне Лебедев после гибели Саши Сенчука…
— Такой он был, наш старший лейтенант Георгий Лебедев! — сказал майор. — А вот другое письмо, не отправленное. Его писал немецкий обер-лейтенант, тот, что был убит в доте финнов на Пикшуеве. Тоже адресовано любимой. И здесь есть стишок, видимо, сам обер сочинил. Переводится он так: «Нас занесло в холодные края по воле фюрера. Молись за меня! Мне уже теперь снятся страшные сны… Полярная ночь и вьюга.
Я ещё живу, а меня считают убитым. И я никому не могу сказать, что меня, живого, похоронили. Только дикий олень приходит на мою могилу и трубит свою тоскливую песню…»
— Скажите, какой чувствительный немчик! — удивился Степан. — Только этот обер, между прочим, был отчаянным! Строчил, гад, из пулемёта, пока мы к самой амбразуре не подползли. Олень трубит?.. — Степан усмехнулся. — Может, товарищ майор, это моя противотанковая протрубила ему последнюю песню?
— Возможно, — медленно отозвался майор, думая, видимо, о чём-то своём, так как заговорил потом горячо, убеждённо: — Вот они с немецкой точностью подсчитали, насколько у них больше самолётов и орудий, измерили силу своих ударных горных дивизий, бригад, полков. По расчётам их штабистов получается, что должны они в самый короткий срок взять над нами верх. Только этого, майор грозно потряс письмами, — этого они не приняли во внимание. Это не поддаётся их учёту! Их обер-лейтенанту за гранитной стеной опорного пункта чудилась смерть и всякая чертовщина. Отчаянно дрался? — майор повернул голову к Степану. — Отчаянный — это не значит храбрый. Наш старший лейтенант шёл на смертный бой, штурмуя дот, и верил в жизнь, верил в победу. До последнего дыхания верил! Пусть эта вера никогда нас не покидает. А сила? Сила наша ещё скажется!
4
Календарь показывал осень, а на севере началась зима.
Неистовый шальной ветер гнал с моря снежную крупу, наметая сугробы и оголяя камни. Мне после длительного пребывания в госпитальной палате ветер казался особенно лютым. Пряча голову в поднятый воротник и опираясь на палку, я шагал осторожно, чуть прихрамывая. В кармане гимнастёрки лежало направление, в котором сказано, что Леонов «временно к строевой службе не годен». Из-за этой бумажки я изменил маршрут и вместо штаба флота пошёл прямо в отряд.
— Как же нам быть? — спросил меня капитан Инзарцев, прочитав направление и перелистав лечебную книжку. — С базой, допустим, я договорюсь. Но в боевую группу зачислить не могу. Куда такого, с палкой? — и вдруг лыжная палка с металлическим наконечником, которую я держал в руке, навела капитана на мысль: — А не послать ли тебя, дружок, на лыжную базу? Займёшься пока хозяйством, а там видно будет.
Так я остался в отряде, а к концу зимы, когда рана окончательно зарубцевалась, уже принимал участие в рейдах по тылам врага.
Теперь в поход отправлялись закалённые в боях и спаянные крепкой матросской дружбой разведчики, о делах которых я много слышал на лыжной базе, читал во фронтовых газетах и листовках.
Вместе с ветеранами отряда выросли новые отважные следопыты Заполярья. Были среди них моряки разного возраста. Отделениями командовали призванные из запаса мичманы, главстаршины, старшины, такие, как Александр Никандров, Анатолий Баринов, Андрей Пшеничных и другие. Прославились и недавно призванные на флот комсомольцы Александр Манин, Зиновий Рыжечкин, Евгений Уленков и многие их ровесники. Большим авторитетом среди моряков пользовались люди, умудрённые житейским опытом, — мурманский инженер Флоринский и ленинградский слесарь Абрамов, мастера и умельцы, в совершенстве знавшие не только своё, но и трофейное оружие, походное снаряжение. Были среди нас отличные спортсмены студенты ленинградских институтов Головин, Старицкий, Шеремет. На лыжной базе я подружился с Василием Кашутиным, который пришёл в отряд из пограничных войск. Бывалый разведчик и отличный стрелок, сержант Кашутин ревностнее всех обучал своё отделение скалолазанию, маскировке, наблюдению в горах.
Ветераны отряда с радостью встречали новичков, а особенно тех, кого давал нам флот. Мы приняли в свою семью старых знакомых по базе — электрика Павла Барышева, моториста Ивана Лысенко, штурмана Юрия Михеева, кока с подводной лодки Семёна Агафонова, списанного, кстати, на берег за какой-то неблаговидный поступок. Агафонов был единственным моряком, для которого капитан Инзарцев сделал исключение, зачислив в отряд под свою личную ответственность. Если строгий Инзарцев пошёл на такой шаг, то, видимо, высоко ценил этого хладнокровного и безгранично смелого помора. Как показало время, Инзарцев не ошибся в Агафонове.
Теперь в отряде были партийная и комсомольская организации. На должность комиссара политотдел прислал старшего политрука Дубровского, опытного политработника. К нему я и обратился с просьбой разрешить мне пойти в очередной рейд и, если можно, — в отделение Кашутина. Комиссар посоветовал Инзарцеву взять меня в связные.
— После большого перерыва в боях, — сказал мне комиссар, — вам надо находиться поближе к командиру. А отделение Кашутина пойдёт замыкающим.
Тёмной вьюжной ночью высадились мы на скалистом берегу и начали марш через горы к вражеской базе. Дорогу отряду прокладывали неутомимые ходоки Мотовилин, Радышевцев и Агафонов. Впереди идущие ненадолго задерживаются у препятствия. А замыкающие преодолевают препятствие, когда первые уже далеко ушли вперёд. Комиссар шёл с замыкающими — разведчиками Кашутина, с теми, кто не отставал и кто следил, чтобы не было отстающих.
Полночь. В горах свирепствует снежный буран. В пяти метрах уже не видно идущего впереди разведчика, и, чтобы не потерять друг друга, мы движемся плотной цепочкой почти до самого конечного пункта.
Недалеко от вражеской базы все залегли. Только двое, Алексей Радышевцев и Николай Даманов, ушли вперёд, чтобы первыми забраться на площадку близ базы, где выставлены часовые. Мы с нетерпением ждём развязки короткой, драматической схватки, которая на языке разведчиков называется: тихо «снять» часовых…
Два егеря в длиннополых шинелях с высоко поднятыми воротниками шагают навстречу друг другу. Они не видят облачённых в белые маскхалаты разведчиков, распластавшихся на снегу. Да и разведчики видят часовых лишь тогда, когда те сходятся в центре площадки. Потом егеря растворяются во мраке ночи, чтобы через две — три минуты появиться на этом же месте. Егерей надо «снять» одновременно, иначе первый часовой заметит исчезновение другого и поднимет тревогу.
Егеря разошлись. Теперь за каждым из них пополз разведчик. Радышевцев притаился за валуном близ тропинки, утоптанной часовыми, и замер. Когда, уже возвращаясь, егерь, сутулясь и глядя себе под ноги, проходил мимо валуна, Радышевцев одним прыжком настиг его, оглушил прикладом и тут же загнал ему в рот кляп. Только потом он полез в карман за ремешком, чтобы связать егерю руки на спине.
Пока Радышевцев это делал, ему послышался приглушённый хрип борющихся людей. Он побежал в противоположную сторону, но Даманова не нашёл, а увидел следы, по которым можно было определить, что здесь недавно происходило. Вот тут была засада Даманова, отсюда он напал на егеря и свалил его с ног. Егерь, видимо, сопротивлялся, когда Даманов скручивал ему руки. Следы на снегу показывали, как двое отчаянно боролись, катались по земле, приближаясь к обрыву, где след оборвался.
Радышевцев вздрогнул, услышав внизу шорох, и отскочил назад, схватившись за автомат. Во мраке ночи не видно того, кто, цепляясь за камни, карабкается наверх. Свой или чужой? Радышевцев увидел пальцы левой руки, потом нож, зажатый в правом кулаке, и, наконец, показалась лыжная шапчонка Даманова.