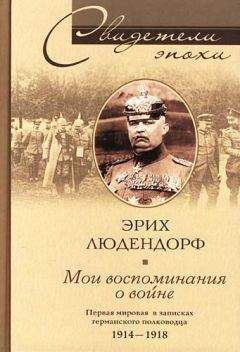Хозяин был упоен своими успехами, а меня просто тошнило от его махинаций. Он, видимо, понял это и стал оправдываться:
— Торговля требует хитрости, Манолис. Не обманешь — пропадешь. Посмотри на греческих крестьян, они вот мозгами шевелят. Попробуй обмануть грека — не выйдет. Порабощение делает человека хитрым. А если я и беру у турецких крестьян что-то, то их государство у меня забирает намного больше. Ты видел Селим-бея, моего компаньона? Ты его здесь не видел и не увидишь. И все же каждый месяц он забирает у меня половину доходов.
Его слова меня не убедили, и я не стал думать лучше ни о нем, ни о его делах. Я вспомнил историю, которая произошла в прошлом году с моим отцом. Как всегда, когда наступало время продажи урожая, цены на изюм упали. У нас было тысяча восемьсот ока первоклассного изюма. Цена, которую определили торговцы, давала всего пять лир дохода после выплаты наших долгов. Отец отказался продать плоды своего труда по такой низкой цене. Он решил отправить изюм в Смирну одному крупному торговцу, который должен был продать его, когда поднимутся цены. Прошло несколько месяцев. И вот однажды мы получаем от торговца письмо, в котором тот пишет, что вынужден продать изюм по любой цене, потому что есть опасность вообще его не реализовать и тогда мы не сможем даже покрыть наши долги. Перед такой угрозой мы решились на самоубийство. Когда этот «почтеннейший» торговец прислал нам отчет, выяснилось, что мы еще остались должны ему тридцать пиастров [6], но… будучи человеком великодушным, он нам этот долг прощает.
Я близко к сердцу принимал горе крестьян и вдвойне страдал, видя своими глазами, как ведется торговля. Однажды к нам пришел один бедный крестьянин — турок из Бурлы. У него была большая семья, он был одет в какое-то рванье и вместо кожаной носил войлочную обувь. Щеки у него ввалились, как у великомученика, зубов не было. Его добрые глаза и седая редкая борода вызывали симпатию к нему. Он привез двадцать мешков изюма и терпеливо дожидался своей очереди. Изюм у него был хороший, золотистый, как мед. Он перебирал его своими грубыми, натруженными руками, словно ему было больно с ним расстаться. Сколько пота пролил он, сколько мучился, чтобы приготовить его!
— Ну-ну, мой золотой, ну-ну, мой сладкий! Ты меня замучил, все соки выжал… Иди теперь с богом…
Когда господин Михалакис стал взвешивать его мешки, к турку подошел его сын. Он принес еще небольшой мешок, в котором было около сорока ока изюма. Он о чем-то поговорил с отцом и ушел.
— Взвешивай и этот мешок, — сказал крестьянин, и глаза его засветились. — У меня хороший сын, Михалакис-эфенди. Я дал ему немного изюма, чтобы он отнес его домой, детям зимой полакомиться, но он, добрая душа, узнал от моего брата, что у меня большой долг, и принес его обратно, на продажу!
Торговец без труда нашел хвалебные слова для сына турка, но сорок ока изюма были им бесстыдно украдены. Он не стал взвешивать этот мешок, а отставил его в сторону. Я был тогда еще безусым щенком, но эта несправедливость пробудила во мне гнев.
«Вот ведь какие подлые дела творятся в мире, — возмущался я про себя. — Бедный крестьянин потом изойдет, пока заставит землю отдать ему свои плоды, а торговец — вроде бы почтенный человек и добра у него всякого хватает — имеет весы и считает работой грабить бедняков!» Позднее я познакомился с крупными торговцами, которые не унижали себя такими мелкими махинациями, как Михалакис Хадзиставрис. Однако я так и не мог постигнуть, как им совесть позволяет покупать плоды наших трудов за гроши, а продавать намного дороже.
Что они знают о работе виноградаря? Что они понимают в прививках, обрезке, орошении, что знают о страхах, которые испытывает крестьянин перед филоксерой, что переживает он, пока созреет виноград, пока будет собран, высушен и доставлен торговцу? Увидит крестьянин облачко на небе и следит за ним день и ночь, не принесет ли оно грозу. Чего только не передумает виноградарь, просматривая каждую ягодку, очищая ее от соринок. А ночью, словно ребенка, покрывает плоды своих трудов ковриками, чтобы, не дай бог; не повредила их холодная утренняя роса.
Через неделю, когда настало время получать жалованье, я сказал господину Михалакису Хадзиставрису:
— Хозяин, дай мне другую работу. Я не могу стоять у весов. Не будет там от меня пользы…
Торговец понял. Он посмотрел на меня с удивлением и одновременно с пренебрежением.
— Жаль! А я-то принял тебя за смышленого малого…
Я опустил голову, стиснул зубы, чтобы не сказать грубость, но не выдержал:
— Что же делать, господин Михалакис, — ответил я с издевкой. — Видно, ты по своему обыкновению и меня неточно взвесил!
Мое поведение и слова стоили мне места. Уже на следующий день я очутился на улице. Я подыскивал себе другую работу. С августа до октября поступал инжир. Я временно устроился работать на склад Захариаса. Инжир требует умелых рук. Греческие рабочие обрабатывали лучшие сорта инжира. Турки — тот, что похуже. Работали мы врозь. Мы обрабатывали известные сорта инжира — «лаэр» и четырехугольный, как лукум, «куркубини» — и укладывали его в коробки. Мастера строго следили, чтобы плоды были подобраны по размеру и цвету, потому что этот товар вывозился в Европу и в Америку!
Первые поезда, привозившие инжир из Айдына, всегда были украшены ветками мирта и лавра. На окраине, в Пунте, поезда эти встречали салютом из охотничьих ружей. К этому времени государство приурочило чеканку новых монет. И то, что я снова имел работу, да еще с инжиром, и вся эта праздничная атмосфера воодушевляли меня. Я работал весело, с душой.
— Эй, парень, пожалей себя, — сказал мне однажды Гоняс, работавший рядом со мной. До этого он занимался разной поденной работой — то в садах, то продавал кур или рыбу, то плотничал. — Закуривай, братец! Если мы все так будем стараться, работа завтра кончится и мы все очутимся на улице!
Не прошло и месяца, как я убедился в справедливости его слов. Все сезонные рабочие были уволены, и я снова должен был думать о заработке. В кондитерский магазин, расположенный в квартале, где я жил, требовался рабочий. Я нанялся туда, надел белый передник и старался делать все как можно лучше. Но однажды ко мне подошел хозяин и сказал: «Ничего не, смей брать в магазине, слышишь? Ничего! Если тебе захочется чего-нибудь, спроси сперва у меня…» Я вспыхнул, снял передник, отдал ему и ушел. Много работ я сменил, пока устроился прочно. Некоторое время я работал в бакалейной лавке в Тарагаче, которая была одновременно и столовой. Клиентами этого заведения были рабочие ближайших фабрик и портовые грузчики. Иногда они ели что-нибудь, а иногда просто выпивали стоя стакан вина или рюмку раки. У хозяина была огромная черная доска, где были написаны имена клиентов. Рядом с каждым именем мелом ставились палочки — по числу выпитых рюмок. Лавочник был таким же пройдохой, как Хадзиставрис. Он не довольствовался честным заработком. «Пьяный не разберется», — говорил он и без всякого стеснения ставил две, а то и три палочки за одну выпитую рюмку. Это была не та работа, о которой я мечтал.
Я устроился в пекарню. Была зима, и мне приятно было спать в теплом месте. Но хозяин измывался надо мной, и я ушел. Я перешел на кожевенный завод, где воняло протухшей требухой, известь разъедала руки, а заработка не хватало даже на хлеб. Потом я два месяца работал на мыловаренном заводе. Даже ковалем мне пришлось побывать — я подковывал лошадей…
Мне казалось сначала, что в этом чудесном городе все двери для бедняков были открыты и достаточно закрыть глаза и вытянуть руки, как при игре в жмурки, чтобы получить желаемое. Но жизнь быстро развеяла мои детские фантазии. Как бы слаженно и ловко ни работали мои голова и руки, я был всего только рабочим, жизнью которого распоряжаются хозяева и могут выбросить его на улицу, когда им вздумается.
Прошло почти полгода, прежде чем мне наконец удалось устроиться на место с приличным заработком и питанием. Хозяину моему, Яннакосу Лулудясу, старому контрабандисту, дали прозвище Злая Собака. Сначала я не понимал, почему его так называют. Мне он казался золотым человеком. Ему было неведомо, что такое скупость, он тратил все, что зарабатывал, поддерживал бедных и слабых, готов был помочь первому встречному — и не на показ, а от всего сердца. Во имя спасения души своей преждевременно скончавшейся жены он дал обет: каждую субботу посылать какой-нибудь нуждающейся семье корзину продуктов — да каких продуктов: сыр, мясо, яйца, бублики! — и держал это в тайне.
— Отнеси эту корзину и оставь у двери, — говорил он мне. — Только смотри, чтобы тебя никто не увидел…
Яннакос был красивый мужчина, правда, немного отяжелевший. Он был высок, широкоплеч, с густыми нависшими бровями и глубоко посаженными глазами, усы у него всегда были лихо закручены. Он носил шальвары, жилет с бархатными отворотами и феску с богатой шелковой кисточкой. Если кисточка нависала ему на лицо, то лучше было с ним не заговаривать, к нему даже не решалась подойти ни одна из его обожаемых пяти дочерей. За поясом он всегда носил кинжал с резной ручкой — дар его покойного отца. Позднее я узнал, что именно этот кинжал был причиной его прозвища Злая Собака. Он убил нескольких турок и очень этим гордился.