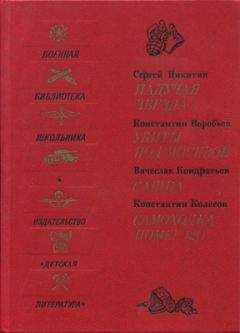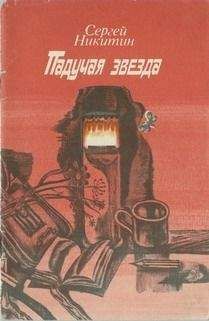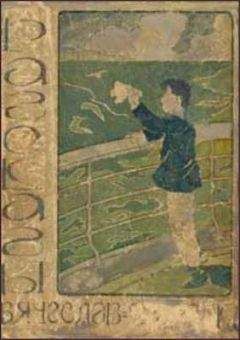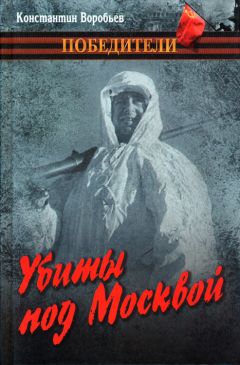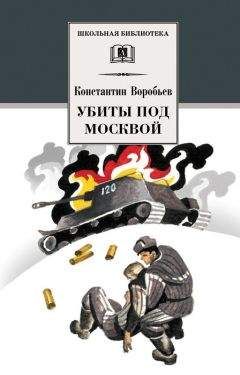Ну конечно же!
– Ладно, – как будто бы сдаваясь, сказал он Володе. – Лиза Нифонтова.
Этот разговор происходил вечером на улице. Непро глядная темь, густой туман, сырость. Разбухшие огни фо нарей висели высоко над землей, не достигая ее своим светом. Митя быстро простился с другом и, оставшиа один, вдруг остановился, вконец обессиленный этим смя тением всех чувств и мыслей, поднял разгоряченное ли цо к туманному небу и громко, с мукой в голосе спро сил:
– Когда же это кончится?! Господи, боже мой…
Ночью он не спал. Переворачивая подушку холодной стороной, прижимался к ней щекой, видел фланелевое Лизино платьице, в котором она часто приходила в школу, видел полудетское круглое лицо ее с припухшими, словнс после плача, губами, видел белую ниточку пробора на маленькой голове, и странным образом эта Лизина невзрачная обыденность оборачивалась для него чем-то трогательным и милым.
Наутро в классе он уже был скован перед Лизой той оболванивающей робостью, которая сопутствует первой влюбленности.
Жалкой была эта любовь, хотя и разделенной. Пугливая, застенчивая, таящаяся от глаз людских, она была не радостью, а разладом всех душевных сил. В школе они боялись заговорить друг с другом, Митя незаметно совал Лизе записочки, назначая встречу где-нибудь на окраинной улице. Молча бродили они по городу, держась все тех же темных улиц, не решаясь показаться вместе даже в кино, разобщенные своей робостью и как будто даже враждебные друг другу. Выходили на загородные пустыри; из мглистой темноты полей и дальних перелесков валил тяжелый, пахнущий талым снегом ветер, в клочковатых, стремительно летящих тучах нырял новорожденный месяц, и как-то дико, запустело шуршала прошлогодняя полынь.
Ох, как тяжело! – сказала однажды Лиза. – Может быть, нам не встречаться?
И этими словами вдруг выразила и Митину подспудную надежду на какой-то исход всей этой неразберихи чувств, в которой они барахтались, словно в трясине. Впервые тогда он поцеловал Лизу, исполненный благодарности и нежности к ней за то, что она несла с ним одну тяжесть и сумела сказать за них обоих хоть какие-то слова ободрения и надежды.
В мае начались экзамены. Митя стал приходить в маленький, уже заметно скособочившийся домишко, где Лиза жила с теткой – учительницей музыки, миловидной, рано состарившейся женщиной, которую он мысленно прозвал одуванчиком за мягкую, грустную и добрую улыбку, никогда не сходившую с ее запавших губ. Во дворике с густым запущенным вишенником вдоль забора, за столиком, врытым в землю, он растолковывал Лизе доказательства геометрических теорем, неприятно убеждаясь в ее непонятливости. Когда была сдана геометрия и Лиза перестала нуждаться в его помощи, он поймал себя на том, что был рад предлогу реже встречаться с ней, потом уехал с Володей и Колей Ладушкиным в Ростов и там, на сверкающих просторах озера Неро среди возвеличивающегося ансамбля кремлевских соборов, почувствовал себя раскрепощенным от всех томивших его недоумений, с каким-то волнением первооткрывателя вдруг поняв, как бесценна и прекрасна молодость, как преисполнена она должна быть здоровьем, радостью и душевной ясностью. Heт, никогда больше не повернет он громко клацавшее кольцо калитки и не войдет в тот игрушечный дворик, само существование которого показалось ему теперь неправдоподобным: «А был ли дворик-то? Может, дворика-то и не было?..»
Но эта безмятежная ясность владела им недолго. Вернувшись домой, он через несколько дней встретил Лизу на улице.
– Ты приехал! – обрадовалась она. – А я одна… Понимаешь, тетя уехала в дом отдыха. Не отдыхать, а работать. На все лето. Она каждое лето уезжает. Понимаешь, там танцы, самодеятельность. Я тоже уеду, если у нее будет отдельная комната. А сейчас я совсем одна. Ты заходи, пожалуйста.
Митя был обескуражен. Он думал, что Лиза будет рада развязке их отношений, но ее счастливое смущение при встрече, торопливость слов, ласкающий и просящий взгляд – все говорило о том, что она вопреки всему любит глубоко и прочно. Не найдя в себе сил сказать правду, он пообещал прийти к ней и не пришел. Готовясь в те дни к путешествию по реке, он покупал в магазине рыболовные снасти, яростно торговался со знакомым бакенщиком из-за лодки, еще и еще раз составлял с Володей списки необходимых вещей, а в сердце среди этих милых забот то и дело тупой занозой входила жалость к Лизе.
И только большая беда тех дней постепенно отрешила его от всего, что считал он доселе важным и трагически неразрешимым в своей жизни.
С утра этот день был прохладным и тихим, с мелкой росой на капустной рассаде в огородах, через которые Митя бежал к реке. Огороды были матово-серебряные, с прочернью. Митя бежал, размахивая полотенцем, легко, упруго, и что-то ликующе пело в нем без слов, так, должно быть, поется по весне у поднебесного жаворонка. Песок на пляже по утрам бывал холоден, а вода в реке слишком тепла, чтобы освежить, и Митя предпочитал купаться на Ключах – полукруглой заводи, песчаное дно которой, видное на большой глубине, шевелилось и кипело маленькими фонтанчиками, словно жидкая каша. Как ожигала ледяная вода Ключей! Какой приятный холодок исходил после в течение всего дня из каждой поры, судорожной дрожью пробегая по спине! Когда Митя, выкупавшись, шел потом в ремесленное училище, где знакомые ребята выковали ему новые уключины для весел, то чувствовал именно эту игольчатую прохладу во всем теле и пошевеливал плечами, чтобы ощутить приятное прикосновение к ним свежей рубашки. А в училище, в длинном, с серым бетонным полом коридоре уже толпились у радиорепродуктора преподаватели, ученики, мастера, повара из столовой, и физрук – широкогрудый парень в футболке, – махнув рукой, сказал:
– Ведь только на финской отвоевал – и снова!
Войну Митя и его товарищи восприняли с бодряческим легкомыслием, верили, что к осени все должно кончиться, что несокрушимая Красная Армия, о которой они знали столько хороших песен, в два счета расколотит каких-то там немцев. У них даже возникла тревога: успеют ли они приложить свои силенки к общему делу победы над врагом. Ходили слухи о каких-то спецшколах, куда принимают ребят с семилетним образованием и готовят из них летчиков. Они написали запрос в «Комсомольскую правду» и вскоре получили из редакции совет обратиться в местный военкомат. Там их принял военком с полководческой фамилией Суворов – громадный полный молодой капитан, осовело моргавший налитыми кровью глазами. Он, видимо, мало спал в эти дни. В кабинетах и коридорах военкомата, на широком дворе, где уже была вытоптана вся трава, ходили, сидели, лежали люди с вещевыми мешками, в телогрейках, старых гимнастерках, мятых пиджаках. Сразу несколько гармоней пьяной дурью орали во дворе, и в жарком воздухе над ним колыхались серые полосы табачного дыма.
– Какие еще школы! – поморщился военком, сжимая лоб пальцами правой руки. – Куда торопитесь? С какого года? Ну вот! – нервно хохотнул он. – В конце сорок второго пройдете приписку, а в начале сорок третьего провожу вас на фронт.
Мальчики все разом загудели что-то ломкими голосами.
– Да идите вы к черту, – не крикнул, а как-то очень проникновенно попросил он. – Ведь там война, там стреляют, понимаете? Вот на эдакий манер.
Он встал – детина под матицу, – судорожно повел шеей в стороны, и левая рука его маятником закачалась, словно подвешенная за петлю на крючке. Он подхватил ее правой и протянул вперед – грубый протез из черной кожи, уже вытертой до белизны, на кончиках пальцев.
– Пока я здесь, – ворчливо сказал он, бросив эту страшную руку, – ни один доброволец из сопливых не просочится через меня туда. Каждому овощу свое время.
Сорок третий! Несомненно, военком знал, видел и понимал больше них, и все-таки к его словам Митя отнесся недоверчиво. А между тем эти слова ежедневно находили подтверждение во всех больших и малых событиях тогдашней жизни. Немцы стремительно катились в глубь России, город падал за городом, школу заняли под госпиталь, в садах, огородах и дворах по приказу штаба МПВО жители города, от которого в любую сторону скачи – ни до какой границы не доскачешь, рыли щели, спиливая для перекрытий двадцатилетние яблони. А потом первая – не учебная – тревога. Надсадный вой сирен, рев заводских и паровозных гудков. Хлопанье зениток, трескотня пулеметов, пороховая россыпь снарядных осколков по железным крышам. А в светлом небе июльской ночи – крестообразные силуэты медлительных, даже как-то пренебрежительно к этой наземной шумихе медлительных бомбовозов, идущих на бомбежку Горького.
В эти дни неожиданно появился отец. Митя нес два ведра воды и увидел, что возле калитки стоит и смотрит на пего туго, щеголевато затянутый в ремни военный с каким-то странным, похожим на скрипичный футляр, предметом в руках. Только подойдя ближе, Митя понял, что это был жесткий чехол для охотничьего ружья.