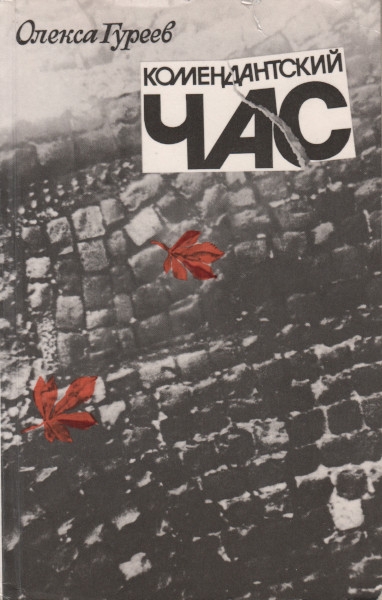Валечка.
Ранней весной 1932 года умерла мать, и дети Прилуцких стали словно бы круглыми сиротами. Они были похожи на беспомощных птенцов, еще не успевших опериться и уже потерявших своих опекунов. Вале, самой старшей, было шестнадцать, Зине на три года меньше, Павлику десять, Володе только-только миновал седьмой. Мама вела хозяйство, держала семью, всех обшивала и кормила. А как же теперь без нее? Отец, правда, был не стар, но он, как все мужчины, не умел совладать со всей этой многоликой оравой. Смерть матери обернулась тяжким горем, гнетом, который сказался на всех.
Но особенно доставалось Вале. Утром она бежала в школу, бежала часто голодная, недоспав, а возвратясь домой, сразу начинала готовить обед. В пять часов приходил отец, — он работал начальником цеха на авиационном заводе, — надо накормить его. А сколько других больших и малых забот ложилось на ее плечи! Лишь вечерние часы она могла использовать на подготовку к урокам, однако к тому времени уже едва держалась на ногах. Сядет, бывало, за стол, положит голову на руки, чтобы отдохнуть немного, да и заснет. Иногда в таком положении ее заставало утро.
Отец у них был человеком веселого нрава, энергичный, жизнерадостный, любил развлекать детей, даже с маленьким нахохленным Вовкой и то находил общий язык, а после смерти жены его словно подменили. Все о чем-то думал, ходил сам не свой, в глазах неизменная тоска и печаль. Однажды он позвал Валю в комнату, что служила детям спальней, и сказал:
— Не могу спокойно смотреть, как ты выбиваешься из сил, дочка, не знаю, как нам дальше жить. Кое-кто советует отдать Павлика и Вову в детский дом, но я отказался. Они же не круглые сироты. Прикидывал, может, ходить в столовую? Тоже не с руки: и времени на это надо много тратить, и дороже обойдется — не сведем концы с концами. Словом, куда ни кинь, везде клин...
Валя стояла перед ним возбужденная, теребила пальцами полотенце, пыталась вставить и свое слово. Едва дождалась, пока отец выговорится. Глаза у нее сияли, светло-серые мамины глаза.
— Не печалься, папа, все будет хорошо, — сказала рассудительно, как взрослая. — И семью не придется разбивать, и всем станет легче. Я брошу школу...
— Что? — переполошился отец.
— Устроюсь на завод, буду овладевать специальностью, а ученье продолжу потом или поступлю на рабфак.
Отец покачал головой.
Школу бросать нельзя, придумаем что-нибудь другое.
И придумал...
Через неделю, придя из школы, Валя застала дома незнакомую женщину. Сдержанно поздоровалась с порога, но дальше не ступила ни шагу, будто попала в чужую квартиру. Женщина была молодой, похожей на цыганку — черные волосы, смуглый цвет лица. Не хватало разве что сережек в ушах и ожерелья из серебряных монет. Она заговорила низким, грудным голосом:
— Если не ошибаюсь, ты старшая дочь Сергея Ивановича? Валя? Почему молчишь?
Не дождавшись ответа, она посочувствовала «бедной сиротке», которой приходится и учиться, и тяжело работать по дому, но теперь, мол, все образуется — она заменит малышам маму, а Сергею Ивановичу — жену.
— Замените? Вы? — почти с испугом переспросила Валя.
Темные цыганские глаза женщины еще больше потемнели, брови нахмурились.
— Да. Тебе не нравится? Что именно тебе не нравится? Почему молчишь?
Взволнованная Валя с удивлением смотрела и смотрела на нее, понимая, что у этой своевольной красавицы нет ничего, что могло бы хоть отдаленно напомнить маму. Наконец проговорила:
— Помощи мне не нужно, спасибо; будет лучше, если вы уйдете от нас. Зине уже тринадцать лет, она многое умеет делать. Мы присмотрим за отцом, не беспокойтесь. Пожалуйста, не оставайтесь здесь, уж мы сами...
Женщина побагровела, глаза ее сузились.
— Ах, так? — отчеканила она, меряя Валю взглядом, заносчивым и презрительным. — Имея доброе сердце, я пожертвовала собою, согласилась надеть на шею это ярмо, чтобы твоих братьев не отдавать в детдом, а ты так бесцеремонно выгоняешь меня из дома? («Отец рассказал ей о нашем разговоре», — успела подумать Валя.) Значит, ты считаешь меня эгоисткой, думаешь, я пришла сюда из-за своей выгоды? Какой? Почему молчишь? Соблазнилась вашими хоромами с голыми стенами? Ошибаешься! Мне стало жаль всех вас, жаль вашего несчастного папочку, и я сознательно пожертвовала собой. Да, сознательно, во имя человечности. Разве ты не собиралась бросать школу? («И это отец ей рассказал, — снова горько подумала Валя, — все, все рассказал чужой женщине».) А с моей помощью ты не прервала бы учебы, потом поступила бы в институт. Не хочешь? Хорошо, я могу повернуться и уйти отсюда, оставить вас на произвол судьбы. Но я пообещала Сергею Ивановичу навести порядок в этом доме и должна сдержать свое слово. Не в моих привычках обманывать, а том более таких почтенных людей, как твой отец. К тому же мы с ним фактически уже муж и жена, имей это в виду, и мы не будем считаться с чьими-то капризами. Ясно тебе? Но пора кончать этот ненужный разговор. Хватит! Раздевайся, обедай и садись за уроки...
Валя опрометью бросилась в спальню, упала на свою кровать и зарылась головой в подушку. Кусала губы, изо всех сил сдерживала себя, чтобы не разрыдаться, не закричать, кажется, только теперь она осознала, что значила для них мама. Не выдержала, зарыдала. На плач прибежала Зина, пыталась успокоить сестру, пробовала снять с нее пальто, — сама тоже всхлипывала. Наконец Валя немного успокоилась, лежала неподвижно, как мертвая. До ее слуха из-за двери доносился разговор. Говорил отец, кажется, что-то спрашивал. Ему отвечал грудной голос: «Я не обидела ее, она просто неуравновешенная и невоспитанная девчонка». Скрипнула дверь.
— Валя...
С минуту отец стоял над нею тихо, словно его здесь и не было. Ждал отклика. Потом присел на край кровати, положил руку на спину дочери, провел рукой по голове.
— Валя, успокойся. Ты же сама видишь, как нам всем трудно. Другого выхода у нас нет, подумай хорошенько, взвесь все. Люди, какими бы разными они ни были, при желании находят общий язык. Слышишь, Валя? Ты должна понять и мое положение, посочувствовать мне. Вас четверо, что я могу поделать без хозяйки? Слышишь, Валя? Пообещай, что все будет хорошо. Ну? Я прошу тебя.
Она, не меняя позы, повернула