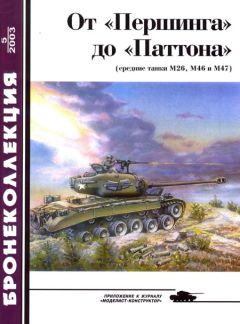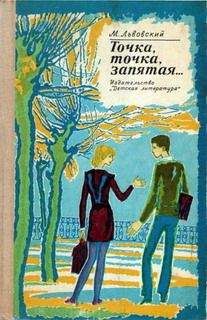— Факты! — крикнул он, едва владея собой. — Приведите факты. Опровергайте обвинение более вескими фактами. Докажите его необоснованность. Не то я лишу вас слова.
Я запротестовал, настаивая на своем законном праве защищать своего подсудимого так, как считал правильным.
— Факты! — снова крикнул мне в ответ Николау, угрожающе подняв палец. — Опровергайте фактами!
Я понял, что довел его своим выступлением до грани отчаяния. Мужество Николау было поколеблено. Он явно переоценил свои силы, свою способность не поддаваться чувствам, раздиравшим его сердце. И он боялся сейчас, что не сможет скрыть терзавшую его муку, не сможет сохранить самообладание и вести заседание так, как он считал нужным, как если бы Алексе не был дорогим для него человеком, мужем его дочери, отцом его внуков.
«Тем лучше», — подумал я и решил ударить по нему еще сильней, не дать ему опомниться, оглянуться… Я набросал перед ним весь жизненный путь Алексе… Как он рос сиротой среди чужих людей, потеряв на войне родителей… Как скитался с одиннадцати лет босой по стране, с торбой на палке, где лежали несколько книг и кусок мамалыги… Как попал в ученики к сапожнику… Как поступил наконец в военную школу, обеспечившую ему стипендию. Рассказал, как в течение тринадцати лет работал он начальником отдела личного состава… Как стал офицером полка, которым командовал он, Николау…
— Довольно! — крикнул генерал. — Я вас лишаю слова!
Алексе, раздавленный тяжестью выдвинутого против него обвинения, покорно и безнадежно следивший до того за прениями сторон, не выдержал тут и разрыдался. Но генерал бросил на него холодный взгляд, и этого было достаточно, чтобы он мгновенно смолк, продолжая только судорожно всхлипывать, так что стул заметно дрожал под ним… Мне так и не удалось напомнить генералу, каким замечательным боевым товарищем был Алексе, как он спас мне жизнь в Оарбе на Муреше, как мужественно вел о «себя в боях в Турде, Апахиде, Каре, Ньиредьхазе и Салготарижане…
— Вы нам больше не нужны, — обратился Николау ко мне и к Катанэ. — Капитан Алексе выберет себе другого защитника.
Я пытался протестовать. Ведь я еще не досказал всего, что хотел. Не доказал, что такой человек, как Алексе, не мог быть предателем… Но генерал не разрешил мне дольше оставаться в дивизии и приказал нам с Катанэ немедленно вернуться в свои части — через час должно было начаться наступление.
Всю обратную дорогу Ромулус Катанэ поносил меня как только мог. Недоставало того, чтобы и меня он признал виновным в измене как соучастника Алексе. Но мысли мои были далеко, я его почти не слышал. Я скорбел, что в спешке отъезда не пожал руку моему другу. Ведь, возможно, я видел его сегодня в последний раз… Сердце мое разрывалось от боли… И все же я не переставал еще тешить себя надеждой. Мне казалось, что я сумел поколебать решимость генерала Николау, что, кто бы ни был моим преемником на заседании трибунала следующей ночью, ему удастся добиться отсрочки смертного приговора. Я не учел только одного: этого можно было ожидать от любого другого человека, только не от генерала Николау. Тем более, что Алексе был его зятем.
Панделе остановился и сунул руку в карман за сигаретами. Но извлек только пустую пачку и стал нервно мять ее. Он зажег зажигалку и поднес ее сначала к тонкому, точеному лицу майора, потом к хмурому смуглому лицу сержанта. Оба его спутника, очевидно, уже знали историю Алексе и сейчас дремали, откинувшись на спинку дивана. Сержант держал при этом автомат между коленями, обернув широкий черный ремень вокруг кулака. Панделе встал, подошел к окну и несколько мгновений постоял перед ним с руками, засунутыми в карманы брюк. Он заслонил собою свет, и в купе стало еще темней. За окном проносились ночные тени и, громоздясь, оставались позади. Панделе осторожно опустил стекло. В купе ворвался холодный свежий воздух. Поезд шел мимо полей, и до нас донесся запах свежевспаханной земли, пробивающихся трав, набухших почек…
— Весна, — печально вздохнул Панделе и поспешил закрыть окно, словно страшась этого зрелища возрождающейся природы. И я вдруг почувствовал, что он страстно любит жизнь и для него мучительна мысль, что она может скоро оборваться и он не будет больше иметь возможности наслаждаться ее красотой. Он стал беспокойно ходить по купе, тяжело ступая: один — два шага в одну сторону, один-два — в другую. Тут только полковник заметил, что у него нет сигарет, и протянул ему свой кисет с табаком.
— Мои сигареты в мешке у сержанта, — извинился Панделе. — Я не решаюсь его будить.
Он сел и стал скручивать себе самокрутку из обрывка газетной бумаги. Его длинные белые пальцы делали это очень ловко и изящно. Затем вспыхнула зажигалка и на мгновение отразилась двумя яркими огоньками в стеклах его очков. Они тут же погасли, оставив кроваво-красную тлеющую точку на кончике самокрутки.
* * *
— На следующее заседание, — возобновил свой рассказ Панделе, нервно пуская дым в потолок, — уже не понадобилось другого защитника… Одно страшное событие, происшедшее в ту же ночь, сразу прояснило ситуацию. Атака, которую мы провели по новому плану генерала Николау, увенчалась блестящим успехом. Одна из наших рот, кажется вторая, сделала глубокий обход лесом и ударила во фланг села, на которое велось наступление в лоб, и мы захватили примарию, церковь, школу — все наиболее сильные точки обороны противника. На колокольне нашли немецкого унтер-офицера с радиопередатчиком, на котором лежал код шифра нашего полка.
В следующую ночь мы все снова встретились в дивизии. Генерал Николау специально вызвал меня. На этот раз Алексе был окружен жандармами. На столе перед генералом лежал злосчастный шифр — маленькая замусоленная книжонка в грязно-желтой обложке. Генерал сидел неподвижно, привалившись грудью к краю стола, подперев ладонью подбородок и не спуская глаз с маленькой желтой книжечки, лежавшей перед ним. Он казался изваянием.
И хотя я был по-прежнему убежден, что произошла какая-то роковая ошибка, что Алексе не виновен, что он не мог быть предателем, мне нечем было опровергнуть этот новый убийственный факт. Мне, как и всем, было ясно, что вынесение приговора сейчас лишь простая формальность. Генерал тем не менее довел процесс до конца, строго соблюдая все правила процедуры. Его терпение и самообладание выводили меня из себя. Только позже понял я, что он это делал не только из уважения к закону, который всегда ставил очень высоко, но, главным образом, чтобы оттянуть вынесение приговора.
Заседание началось с опознания шифра. Несчастный Алексе не утратил самообладания, хотя, думаю, прошел через муки ада, когда узнал, что его шифр был обнаружен у немцев. Он, конечно, понимал, что участь его предрешена, и больше ни на что не надеялся, даже на чудо. И хотя говорил он спокойно, почти примиренно, не трудно было почувствовать, чего стоило ему это спокойствие — спокойствие натянутой струны, готовой лопнуть в любое мгновение, — и какая нестерпимая душевная мука скрывалась за этим спокойствием. Алексе перечислил признаки, которые удостоверяли, что найденный шифр был действительно тот, который у него пропал: название полка на обложке, его собственноручная подпись на первой странице, расшифровка на полях другой страницы, кажется четвертой, телеграммы, полученной как-то на передовой, когда под рукой не оказалось бумаги.
— Точно, — подтвердил генерал, перелистав книжонку.
Затем он передал ее Алексе. Тот молча проверил страницу за страницей и еще раз подтвердил, что признает в книжечке свой утерянный экземпляр шифра.
Генерал знаком приказал ввести немецкого унтер-офицера. Это был высокий, крепкий парень с белокурыми волосами и бесцветными глазами, по профессии электротехник. Козма Бабояну зачитал его показание, переводя фразу за фразой.
Затем пленный подтвердил устно, что получил этот шифр от своего командира с заданием перехватывать и расшифровывать все наши распоряжения и разговоры по радио. Вскоре, однако, унтер-офицер потерял самообладание: он просто-напросто испугался торжественной обстановки заседания, которое считал предназначенным для него; он стал оправдываться, канючить, бессвязно бормоча, что он не виноват, что он дисциплинированный солдат и вынужден выполнять приказы. Впрочем, он не смог нам сообщить, каким образом шифр попал к его командиру.
После того как унтер-офицера увели, слово вновь взял Ромулус Катанэ, чтобы поддержать обвинение, хотя в этом уже не было никакой надобности. Первые фразы он еще произнес достаточно благопристойно, но затем, охваченный беспричинной яростью, начал бесноваться и орать. Генерал сидел все так же неподвижно, подперев ладонью подбородок и глядя в пространство перед собой, — казалось, он совсем забыл о процессе. И получилось само собой, что Ромулус Катанэ очутился вдруг в глупом и смешном положении, потому что никто его не слушал и он продолжал говорить словно в пустоту. Заметив это, он поспешил закончить выступление, пробормотав, что настаивает на осуждении Алексе, считая факт его измены доказанным, и еще раз повторил свои прежние аргументы…