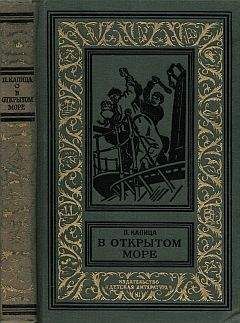– Слушаю! – сказал Кожанов. – Можно итти?
– Разрешу – уйдешь… Василь! – В пещеру вошел Василь. – Как у тебя шашлыки?
– Готово, товарищ командир. На сколько?
– На всех присутствующих, да не забудь комбрига, да Гаврилова позови сюда, да… Лагунов, с тобой кто-то прибыл?
– Дульник, старшина.
– Командир парашютно-диверсионной?
– Да.
– Как же его забыть! Ловко сработал, пальчики оближешь. Слышал, Василь? Найди старшину Дульника, сюда его, на ужин. Иди!
* * *
Берег моря у мыса Мальчин пенился, волны катились с угрожающим шумом. Моросил дождь, когда мы подошли к мысу в ночной тьме. Противодесантная оборона побережья в этих районах осуществлялась отдельными немецкими сторожевыми постами, расположенными на расстоянии двух километров друг от друга. Это были неглубокие окопы с примкнутыми ячейками и площадками для пулеметов. В пологих местах берега иногда устроен был проволочный забор в один кол и закладывались мины. На участке же Феодосия и до озера Ашиголь тянулась сплошная полоса проволочных заграждений, минных полей, артиллерийских позиций и прожекторов.
Туда мы и не думали соваться. Мы избрали для операции пустынный и неудобный берег Коктебельской бухты, где нес охрану румынский кавалерийский полк, которым командовал белоэмигрант-полковник, предпочитавший отсиживаться ночами в Феодосии под прикрытием гарнизона.
Перед выходом экспедиции прибежала к нам обрадованная Ася с принятой ею оперативной сводкой о форсировании Керченского пролива войсками Отдельной Приморской армии и моряками Черноморского флота и Азовской военной флотилии.
Наступательные операции наших войск могли заставить противника усилить охрану побережья, и поэтому я решил предпринять все меры предосторожности. Гаврилов вместе с парашютистами оставался в ядре отряда, скрытого в скалах, а круговое охранение несли комсомольцы из Молодежного отряда.
Татарские лошади пугались моря, и чтобы они не выдали нас, Гаврилов заглотал им морды.
Мы вышли на побережье и залегли в кустах смолистых теребинтов, прогрызших своими корнями скальные известняки.
Со мной были Яков и Дульник, который возглавлял уходивших на Большую землю парашютистов. Сейчас мы проводили вместе, может быть, последние минуты.
Мы лежали и всматривались в море. Сюда должны были подойти корабли. Пока их не было. Мне уже казалось, что немцы могли запеленговать рацию Леи, перехватить радиограммы, расшифровать (идеальных кодов в мире не существует). Могли выйти патрульные катеры из Феодосии или Судака, могли быть береговые засады, и, может быть, где-нибудь близ нас, так же поеживаясь на сырых скалах под моросящим дождем, лежат враги, выжидая удобную минуту для нападения.
Со мной был электрический фонарь-морзовик с сильным лучом. Вот им-то я и должен буду писать кораблям «Сейчас будет» в ответ на «Антон Иванович ждет».
Приближались зимние штормы. Уже сталкивались над морем циклоны, приходившие из Адриатики и с Карского моря. Наступало время, когда Черное море, потеряв свои зеленоватые и ультрамариновые краски, становится действительно черным. Я напряженно смотрел в море. Ни одного огонька, только глухая россыпь прибоя, скрежет камней и пена, как овечье руно.
Валы прибоя, густые и тяжелые, переламывались у берега, сыпали камнями и, тяжело рухнув, уходили с шипением и гулом. Влево и вправо поднялись куиые столбы электрического света, лениво пощупали низкие облака, погасли. Вверху слышался моторный гул, шедший на запад, к Балканскому полуострову. Это, вероятно, шли боевые корабли минно-торпедной авиации – «длинной руки» Черноморского флота.
– Огонек, – шепнул Дульник.
– Где?
– Правее… еще правее… пишет!
В море, как круговой полет светляка, замелькал огонек – сигнал с корабля.
– …тонет Иван… – читал Дульник топотом, – о-э-нч…
Судно сильно бросало, и конец фразы мы потеряли. Мои глаза, казалось, лопались от напряжения. Мне мерещились всюду световые точки и тире. Но вот сигнальщик начал выписывать пароль уже не дальше как в пяти кабельтовых от береговой черты:
«Антон Иванович ждет».
Слышно было, как заработал мотор, сторожевой катер маневрировал у берега малым ходом, приглушив два остальных мотора. Затем зарокотали торпедные катеры, и обостренный слух донес звуки прыжков редана.[1]
«Сейчас будет», – ответил я фонариком.
– Наши! – взволнованно сказал Яша. – Большая земля!
Громче застучали моторы, – торпедные катеры прошли параллельным берегу курсом.
По моему приказанию Яша ушел выводить раненых к берегу. Мы с Дульником спустились вниз. Мокрые голыши стучали под нашими подошвами. Валы с хрипом бросались на берег.
Вскоре мы увидели на гребне вала шлюпки.
– Молодцы, резвы! – похвалил Дульник.
Парашютисты уже были на берегу. Этих бывших моряков не надо было учить, что делать возле моря. Когда лодки перевалили прибой, они бросились к ним. Слышались голоса:
– Давай на себя «четверку»!
– Тузик,[2] тузик принимай!
– Пять «грелок», ребята! Ого!
– Лагом не ставь. Бери «грелку» наподхват!
– Так!
«Грелками» моряки называли надувные резиновые лодки.
На одной из лодок-»четверок» пришел боцман с пулеметом. Боцман спрыгнул на камни, спросил старшего на рейде.
– Надо быстрее грузить, – сказал он мне, – раненых на «четверки», чтобы ненароком не поломать, а здоровые – на остальной мелюзге. Вот-вот должна быть вторая «четверка». Михал Михалыча жду.
– Михал Михалыч будет здесь?
– Разве утерпит!
– Да вон «четверка»!
Боцман бросился к воде я почти без помощи других, ловко выправив нос шлюпки, поставил ее на камни. В «четверке» Михал Михалыча не оказалось. Газрилов быстро грузил шлюпки. Его простуженный голос слышался везде. Я спросил у боцмана, почему не оказалось на «четверке» Михал Михалыча.
– Эва, – ответил боцман, – да н не должен он быть на ней. Он сейчас подвалит.
И вслед за этим, будто из пучины, вынырнула надувная резиновая лодка с двумя людьми: один из них, с острым капюшоном зюдвестки, сидел на носу, второй лихо работал куцым двухлопастным веслом.
– Вот, будь здоров, и сам! – доложил боцман.
Михал Михалыч, весь в черной коже, на береговой волне прыгнул с лодочки, подхватил ее, будто перышко, и лодка бортами, похожими на толстую колбасу, легла на голыши.
Еще до того как Михал Михалыч справился, из лодки выскочил человек в зюдвестке. Михал Михалыч заметил меня, подошел.
– Лагунов! Помнишь меня, бродяга?
– Еще бы, Михал Михалыч!
– Будь здоров, Лагунов! – Михал Михалыч подал мне свою мокрую руку, пронзительно вгляделся в меня. – Да, да, тот самый бродяга, – теперь только он крепко ответил на мое рукопожатие. – Мать честная! Во что только обстоятельства жизни могут превратить порядочного марсофлота! Папаха, шаровары – ну, чистый татарин!
Спутник Михал Михалыча сбросил капюшон с головы, и на плечи упали две черные косы. Женщина постучала ладошками, подняв вверх руки, и мне показалось, что на пальцах мелькнули серебряные кольца. Не видя лица, а только по этим характерным движениям, я узнал Мариулу.
Михал Михалыч будто нарочно, чтобы отвлечь мое внимание, обрушился на меня с вопросами, стараясь заслонить свою спутницу.
Цыганка быстрыми взмахами ладошек распушила юбки и, не глядя на брошенную на камни зюдвестку, быстрым, пляшущим шагом пошла к береговым скалам.
Боцман поднял плащ, догнал ее и провел мимо партизанского поста у тропы. Цыганка побежала вверх и пропала в темноте. Свистел ветер, стучали камни, а моему воображению чудились блеск ее перстней, топот ног и звуки таборной песни.
– Для чего вы ее привезли? – спросил я Михал Михалыча.
– Кого?
– Цыганку.
– Разве? – невинно переспросил Михал Михалыч и, наклонившись ко мне, шепнул: – Про нее забудь, была – нет. Как ветер!
«Четверки» скрипели килями, поднимались на волнах и уходили в море. Весла матросов рвали воду, на какое-то мгновение мелькал кильватерный бурунок, и шлюпки, как бакланы, то поднимались на гребни, то опускались и исчезали из глаз.
Гаврилов деятельно распоряжался погрузкой. Якова не было: ему пришлось охранять район операции. Наконец все раненые были отправлены на корабли. Пришла «четверка», захватила последних парашютистов. Дульник расцеловался со мной и ушел на «тузике», впереди «четверки».
Михал Михалыч, получив от меня «добро», потряс меня на прощанье за плечи, и через секунду его надувная лодка замаячила на шумной волне, провалилась и больше не появлялась.
Усиленней заработали моторы. Запрыгали торпедные катеры. На миг появился силуэт сторожевого корабля, и сразу же пропала из глаз его тонкая мачта.
Гаврилов стоял на берегу. Волны окатывали его, но он не уходил, подставив всего себя соленой воде и пене. Старшинскую свою фуражку Гаврилов высоко держал над головой, провожая ушедшие к Кавказу корабли черноморцев.