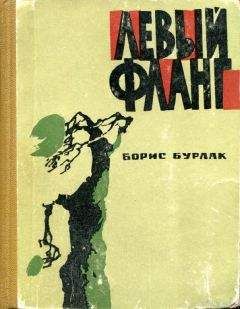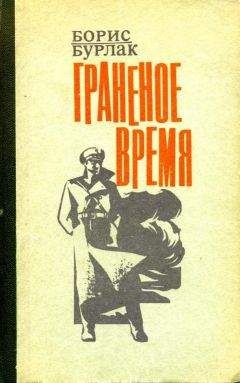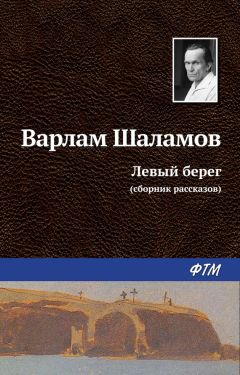Зарицкий и маленький старшина подбежали к Строеву. Не обращая внимания на огонь самоходки, они перенесли его в ближнюю глубокую воронку.
И тут курсанты учебной роты в двух местах перерезали дорогу, а кто-то из саперов метко подбил гранатой «фердинанда». Тот жарко запылал, в смертном исступлении воздел к небу орудийный ствол. Из-за дороги часто били прямой наводкой зенитные пушки немцев. Однако зенитчики не могли уже остановить карающую пехоту, тем более, что с востока, над пойменным придунайским лесом низко шли, точно на посадку, вереницы «ИЛов». Вот и пожаловали на поле боя наши штурмовики. (Что ж, для кого-то они всегда прилетают слишком поздно, но для тех, кто продолжает драться, они обычно поспевают к сроку.)
Майор Зарицкий, потрясенный тем, что случилось с полковником, поднял цепь и повел ее в лобовую атаку на зенитчиков. Смертию смерть поправ!.. Пехота ворвалась на огневую позицию батареи. И летчики, вовремя разгадав, что творится на земле, не торопясь, с чувством пробомбили все шоссе до самого Флоридсдорфа. Путь на Вену и с этой стороны был теперь свободен.
А на дороге густо чадил, постепенно догорая, брошенный хозяевами последний «фердинанд».
Кто же отомстил ему за Ивана Григорьевича Строева? Кто?
Об этом знает лишь военная история, которая и до сих пор продолжает называть все новые имена подвижников на вечерней мысленной поверке седых фронтовиков.
Полковник Строев умирал.
Это понимали только двое: он сам и Панна.
Какая же мука-мученическая: быть хирургом и чувствовать свое бессилие в борьбе со смертью…
Когда Строева привезли в медсанбат, тут же собрался полевой консилиум. Врачи обнадеживали друг друга и все вместе пытались обнадежить Панну. Начсандив предлагал рискнуть — сделать операцию. Но Панна воспротивилась. Она не могла, не имела права обманывать себя: операция ускорила бы его конец.
Иван Григорьевич лежал на берегу Дуная, в теми деревьев. Он то приходил в сознание, то забывался. Панна поддерживала его всем, чем могла, — и кислородом, и уколами. Она не отходила от него ни на шаг. Когда он открывал глаза, она настораживалась, затаивала дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова. Он говорил трудно, тихо. Всякий раз, преодолев накат горячечного бреда, он, возвращаясь к яви, видел над собой высокое весеннее небо, перечеркнутое вдоль и поперек ветвями, на которых молодые листья еще не соединились в один сплошной зеленый купол. Тогда Панна наклонялась к нему пониже, и они близко встречались взглядами. Нет, Панна не плакала, и он был доволен, что она не плакала. Ему очень хотелось улыбнуться ей, но улыбки не получалось, и он хмурился от боли, от горькой досады на собственную немощь. Потом снова начинался бред. Если бы Панна не знала Строева, то отдельные, разорванные его фразы так и остались бы для нее загадкой, хотя бред имеет свою логику. Но она знала все и ничему не удивлялась: ни его смягченным болью упрекам Тамаре Николаевне, первой жене, которую он называл, как постороннюю, по имени и отчеству; ни его обращению к матери, с которой он снова прощался совсем по-детски, как в то время, когда она умирала и когда ему было всего двенадцать лет; ни его тихим, добрым словам в адрес безымянной женщины, что встретилась с ним на фронте. Он рассуждал в бреду и о Борисе Лебедеве, и о комбате Дубровине, и о Верочке Ивиной. Он их наставлял, точно живых. Это вовсе невозможно было слушать.
Панна вставала, ходила возле его кровати, от дерева к дереву. Бой отдалился уже настолько, что лишь одни «ИЛы» в стороне, над Дунаем, напоминали о том, что где-то на окраинах Вены все еще идет, продолжается война. И вообще вся жизнь Панны отдалилась неимоверно, и само время распалось на части. Был момент, когда она поверила в чудо, когда прошлое и будущее опять соединились, но тут Иван Григорьевич позвал ее совершенно незнакомым, чужим голосом, и она тоже, как и он, вернулась к этой жестокой яви, от которой нельзя было никуда уйти.
— Как думаешь, я одолею смерть?.. — отчетливо, внятно спросил он.
— Да, разумеется, разумеется!
— Ты веришь?
— Верю, милый, верю.
О, святая ложь исцелителя… Панна отвернулась, чтобы вытереть слезы, и присела у его изголовья.
— Не плачь.
— Что ты, Ваня, я не плачу.
— Верно? Мне показалось.
— Да-да, конечно, показалось.
— Не надо плакать…
Он крепко стиснул зубы, отчего бугристо проступили желваки на его щеках. Он с большим усилием превозмог волнение и заговорил не спеша, раздельно, — между прерывистыми вздохами:
— Живи полной жизнью. Только не забывай меня. Ты знаешь, у меня никого не остается. Только ты. Одна ты… Как хорошо, что мы встретились. Ты не жалей, что мы встретились…
— Полно. Ну о чем ты говоришь, Ваня?
— Постой, не перебивай.
— Ну-ну, не стану, не стану.
— Я отвоевал свое. Я прожил не много, но и не мало. Средне. Мои друзья давно сложили головы. Кто на Хасане. Кто на Халхин-Голе. Кто на Карельском перешейке. А кто неизвестно где. Мне повезло. Я прошел войну. И вот умираю… Постой, постой. Я знаю, что умираю. Да и ты знаешь… Я жил открыто. Делал все, что мог. И тебя любил открыто, всей душой… — Он помолчал, чтобы собраться с силами, и опять вся его боль соединилась, затвердела в бугристых желваках. — Судьба послала тебя поздно, слишком поздно, — уже скороговоркой продолжал он после трудной паузы. — Но последние месяцы стоят всей жизни. А если бы мы встретились пораньше… Напиши Федору Ивановичу. Сама напиши…
И очередной накат бреда помешал ему досказать, о чем и как следует написать Толбухину. И снова отрывочные слова и фразы, та особенная логика гаснущего сознания, которая по-своему тоже избирательна: наспех, но живо рисует она те картины прошлого, что всегда хранятся в запасниках человеческой памяти. Он бредил сейчас далеким детством, когда пас овец в горах, где ребята разводили костры на проталинах, ели печеную картошку, тайно от взрослых понемногу привыкали курить и домой возвращались с охапками тюльпанов, чтобы этим своим даром отвести все подозрения родителей…
После полудня в медсанбат приехал командир дивизии и начальник политотдела. Но Строев не приходил в сознание, а у них не было времени ждать: начинались бои на подступах к Флоридсдорфу. Генерал Бойченко низко склонил голову перед умирающим полковником.
— Прости, Иван, если я в чем был виноват. Прощай, мой боевой товарищ, друг…
Потом молча простился Лецис. Он трижды, по-солдатски поцеловал Строева и отошел, не поднимая головы.
Панна стояла, привалившись к дереву, глотая слезы. Ян Августович так же молча взял ее за локоть, легонько сжал, и тут она увидела, как старый комиссар, водивший на Колчака, Деникина и Врангеля знаменитых латышских стрелков, горько и тяжко плачет, не стыдясь ни врачей, ни сестер.
Когда они уехали, Иван Григорьевич открыл глаза. Панна бросилась к нему.
— А мне вот получше, — сказал он одним выдохом.
— Да-да, разумеется, разумеется… — говорила она, улыбаясь через силу, сквозь слезы.
Он долго, очень серьезно посмотрел в ее глаза, сделал усилие над собой, хотел что-то еще добавить и не успел: горячая прибойная волна опять захлестнула его с головой.
…Шиханы, шиханы. Один другого выше громоздятся они над железной дорогой. Строев с необыкновенной легкостью поднимается с вершины на вершину, и перед ним все шире распахивается степная даль за металлическим ободком реки, что отмежевывает Европу от Азии. Он стоит на самом пике самого высокого шихана, который называется Седловым. Это южный торец Урала, откуда в ранней молодости открывался перед ним таинственный мир. Знаешь ли ты, Панна, как цветут горы? Нет, верно, ты не знаешь. Так смотри, смотри же!.. Вот занялись глубокие травянистые распадки желтым пламенем чилиги, которое вмиг охватывает все окрестные долки: в этом пламени дотла сгорает прошлогодний седой ковыль. А чилижный низовой пожар стелется, сбегает по склонам, и вот уже огненные ручьи разливаются по кулигам старого бобовника. Он трескуче вспыхивает, его розовое пламя перебрасывается дальше, на густые заросли вишенника, который внизу, в затишье, горит совсем бело. Теперь объят сплошным бело-розово-желтым пламенем весь Южный Урал. Сизый дымок стекает с шиханов в полуденном безветрии. И удивительно, что дымок этот пахнет чебрецом, — его пряный, стойкий запах пересиливает все другие запахи цветущих гор, за которыми плещутся волны марева, встают на горизонте миражные города и замки, да так явственно, что не терпится поскорее дойти до них… Но где Панна? Они ведь только что стояли рядом, и он показывал ей Урал с самого высокого шихана. Нет Панны. Он озирается по сторонам, ищет ее повсюду и, наконец, видит, как она бежит по каменной луке горного седла, не зная, что там обрыв. Надо остановить Панну. Он кричит ей. Она не слышит. Он пытается догнать ее. Не может, никак не может. Тогда он устало охватывает жиденький столбик с метелкой, вкопанный здесь, на вершине, геодезистами, и в упор встречается с одноглазым «фердинандом», который целится прямо в него. Что за черт, откуда немец, если кругом полыхают горы, кружит над головой матерый беркут, поют жаворонки. «Панна! Панна!..» — зовет он ее. Но выстрел оглушает, валит с ног, и он ничего больше не может сделать, чтобы спасти Панну…