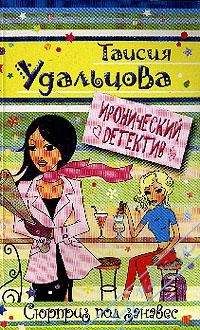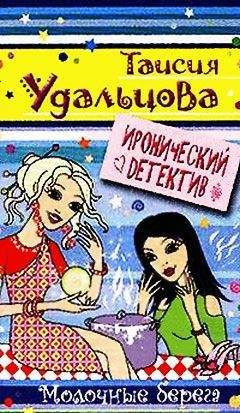Я взрослый человек, но в театре играю мальчишек. Так здорово превращаюсь в мальчишку — никому в голову не приходит, что я не мальчишка и даже не мужчина, а женщина. Такая у меня удивительная способность из женщины превращаться в мальчишку.
Я умею ходить на руках, свистеть, засовывая в рот два пальца, сложенных колечком. Я знаю приемчики, которыми можно свалить с ног любого (самбо!), и умею ходить такой свободной, независимой походочкой, что мальчишки лопаются от зависти: иду неторопливо, вразвалочку, словно не шагаю, а готовлюсь неожиданно ударить по мячу.
Я вообще знаю много такого, что полезно знать каждому мальчишке.
Я — артистка-травести. Так это называется. Очень красивое слово — травести. Оно похоже на название птицы или цветка. Травести.
Каждый день я выхожу из дома с радостным нетерпением. Сперва я иду спокойно, как все прохожие, но потом постепенно прибавляю ходу, начинаю спешить, хотя никуда не опаздываю. Я спешу, как спешат на праздник из боязни, что он начнется без тебя. Моя работа и есть праздник, каждый день замирающий, оживающий вновь на другой день. Праздник, принадлежащий мне одной и всем зрителям, всем зрителям и мне одной. Я выхожу из дома уже не очень молодой женщиной, со своими тревогами, со своими заботами, я думаю об обеде, который не успела приготовить, о белье, которое не успела — так старалась и не успела! — выстирать, о неоплаченных счетах — не было денег! — о лекарстве — опять принять забыла! И еще: о двойках сына Алика.
Вот какой у меня груз мыслей, когда я выхожу из дома. Но по пути в театр со мной происходят совершенно необычайные перемены: мои мысли меняются, тревоги затихают. Я забываю про неоплаченные счета и недостиранное белье, про перегоревший утюг, про засорившуюся раковину. А то, что у моего сына опять двойка, так это с каждым может случиться. Подумаешь — двойка! Стоит из-за этого расстраиваться? В следующий раз решит задачку правильно или спишет у кого-нибудь.
Я выхожу из дома женщиной, а в пути со мной происходят такие перемены, что к зданию театра я подхожу… мальчишкой. На мне еще джинсовая юбка, батник и легкая косынка вокруг шеи, я еще продолжаю держать в руках дамскую сумочку, но я уже мальчишка. Я подхожу к двери театра, щелкаю бронзового льва по носу и пытаюсь вырвать из его пасти кольцо.
Но вот я захожу в свою комнату — артистическую уборную и, сбросив батник и юбку, натягиваю потертые мальчишеские штаны, рубаху без двух пуговиц, ботинки со сбитыми каблуками, потом надеваю желтый парик, поверх его беретик с суконной вермишелинкой на верхушке — и окончательно превращаюсь в мальчишку.
Теперь я жду звонка. Меня слегка познабливает, хотя в театре тепло. Это от волнения. Словно мне предстоит совершить что-то в первый раз. Каждый день, как новичок, боюсь переступить границу между кулисами и сценой.
Раздается звонок. Второй. Третий. Я делаю глубокий вдох и выхожу на сцену.
Множество огней, театральных фонарей — софитов светит мне в глаза, и от этого зрительный зал кажется большим темным провалом. Я не вижу зрителей, но, даже когда в зале совсем тихо, я чувствую близкое их присутствие — слышу их дыхание, сопение, слышу, как бьются их сердца. Как бьются и как замирают.
Я выхожу на сцену, и все мальчишки, сидящие в зале, через пять минут — мои! Они пойдут туда, куда я их поведу. Если скажу острое словечко — захохочут, грохнут, как по команде. Будут хлопать мне, а если очень разволнуются, то затопают ногами, и театр вздрогнет, как от подземных толчков. Они будут кричать, когда надо подбодрить, а если в пьесе меня кто-нибудь посмеет обидеть, они еле сдержатся, чтобы не сорваться с места и не броситься на сцену на помощь. Девчонки в зале сидят тихо. Некоторые шепотом даже осуждают меня, веселого хулигана, но в глубине души я им здорово нравлюсь, и они, стыдясь этого тайного чувства, краснеют. Хорошо, что в темном зале не видно, как они краснеют.
Иногда мне приходится играть очень «плохих» мальчишек. И тогда взрослые недовольны. Они говорят, что своей непосредственной игрой я подаю детям плохой пример. И получается, что чем лучше я играю, тем хуже. Я молчу. Не спорю. Слушаю и молчу. Я-то знаю, что в тех, кого называют плохими мальчишками, все равно есть хорошее, только оно, это хорошее, скрыто очень глубоко. Я же стараюсь, чтобы ребята, сидящие в зале, заметили это скрытое хорошее, чтобы те «плохие», которые пришли в театр, сумели бы лучше разобраться в себе и отыскать в себе что-то хорошее. Хорошее, за которое редко хвалят, не ставят пятерки, не дают грамот, просто не замечают.
Я — травести. Я понимаю мальчишек, а они понимают меня. Они сидят в зрительном зале, а я действую на сцене. Но весь спектакль мы вместе. Мы крепко дружим и как бы разговариваем друг с другом. Тайно разговариваем, словно у меня и у них есть такие секретные аппаратики для переговоров.
Многие думают, что артистом быть легко, что артисты говорят, делают одно и то же, заученное раз и навсегда. Но это не так. Мне кажется, что каждый раз, когда я выхожу на сцену, я все делаю в первый раз. Ведь в зале каждый раз сидят новые зрители, и я должна убедить их в чем-то, а не механически повторять заученное. А вдруг мне это не удастся, и они, мои дорогие зрители, уйдут из театра такими же, какими пришли. И в них не произойдет никаких перемен.
Когда спектакль заканчивается и две половинки занавеса соединяются, я чувствую себя счастливой и усталой.
Я опускаюсь на стул перед зеркалом. Из рамы на меня пялит глаза желтоволосый мальчишка с удивленно поднятыми бровями. Остроносенький, скуластый. Я смотрю в зеркало и чувствую, что мне не хочется расставаться с ним, ведь мы хорошо потрудились.
Но пора возвращаться в жизнь. Я поднимаю руку, вцепляюсь в жесткие волосы и стаскиваю с себя парик. Кромка парика перестает давить, и шпильки, которые держат парик, уже не впиваются в голову. В мальчишке сразу происходят перемены, он становится темноволосым, но он еще есть. Тогда я намазываюсь вазелином, беру полотенце и прячу в него лицо. И тру, тру, как бы сдираю мальчишечью личину. И лишь когда щеки, нос и подбородок начинают гореть, отрываю от лица полотенце.
Нет его! Исчез! Из зеркала на меня смотрит усталая женщина с горящим лицом, спутанными волосами. Только глаза остались от того мальчишки. И никуда не денешь эти мальчишеские глаза. Остались. Смотрят — темные, острые, насмешливые.
Я облегченно вздыхаю и иду домой. Постепенно я забываю о нем, о желтоволосом. Он как бы отстает от меня, теряется в городских улицах. Ко мне возвращаются мои женские мысли. И я начинаю думать о сыне, об Алике.
2
Прежде чем появился Алик, я встретила Антея.
Я встретила его на вокзале. Поезд вот-вот должен был отойти, а я с трудом тащила по перрону огромный, тяжелый чемодан. Казалось, не я держала свою поклажу, а чемодан схватил меня за руку, не пускал, хотел, чтобы поезд ушел без меня.
И тут откуда-то появился высокий, худой, обожженный солнцем парень. Может быть, он и не был таким уж высоченным, но рядом со мной все кажутся выше, чем на самом деле.
Он, худой, поравнялся со мной и сказал:
— Позвольте, я поднесу ваш чемодан не как носильщик, но как рыцарь.
Какой там рыцарь! В пиджаке с короткими рукавами и в огромных потертых кедах, в какой-то рыжей шляпе. Но пока я разглядывала его и раздумывала, он взял из моих рук чемодан, и я сразу почувствовала легкость удивительную, прямо-таки невесомость. Вот-вот полечу над землей. Я зашагала быстро-быстро, и он, мой добровольный рыцарь-носильщик зашагал быстро-быстро, словно в руках у него был не мой чемодан, а чей-то пустой и легкий. Мне показалось, что эта прекрасная легкость исходит от него и что, пока он будет рядом, мне будет легко и весело.
Потом, уже в поезде, он сказал, что его зовут Антей, это его так отец назвал: время было тяжелое, военное, не было даже пеленок, и его, новорожденного, заворачивали в газету, как селедку. Он так и сказал: как селедку. Тогда отец решил — пусть имя у него будет красивое и сильное. И назвал Антеем.
Так мы ехали в поезде с Антеем. Мы стояли в коридоре. Все пассажиры уже спали на своих полках, а мы стояли. И он все рассказывал, рассказывал. И постепенно мне начало казаться, что я не просто уезжаю, а он увозит меня. Потом стало казаться, что мы едем не с вечера, а уже очень давно: всю жизнь так стоим у окна и едем. И нам не скучно.
Когда начало светать за окном, показалось какое-то мелкое плоское озерцо. И на его глади — два белых пятна.
— Смотрите, снег! — сказала я.
Мне почему-то показалось, что в воде плавают два комочка снега.
— Это не снег, — сказал Антей. — Это лебеди. Летят на север. И приводнились отдохнуть.
Я никогда не видела диких лебедей. Только читала про них. Они показались мне очень обыденными, похожими на два комка снега. И не верилось, что они полетят. Они были какими-то неподвижными. Но они полетели. Поезд уже начал удаляться, а я все косила глаза на лебедей. И они полетели. Так просто оторвались от воды и полетели.