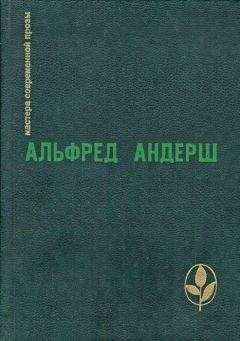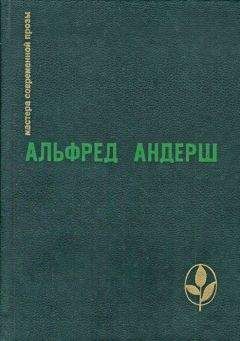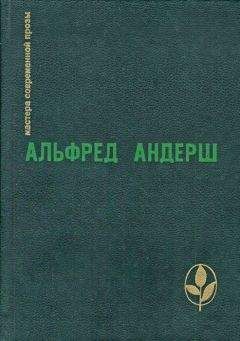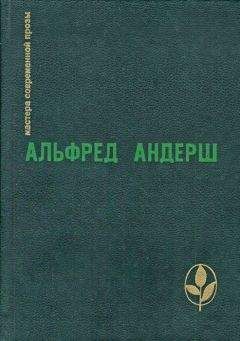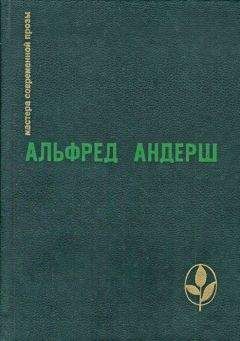Теперь он мог бы сказать Дороти (хотя и не сделал этого), что она сама стала провинциальной патриоткой: хоть и грустила, что никогда не будет принята по-настоящему в семью сапотеков (критическое начало было ей свойственно), а все же говорила: «Мы — сапотеки» («мы — ньюйоркцы»), — и описаниями ландшафта, а также некоего одеяния, называемого huipil, пыталась соблазнить его, предлагая избрать своей родиной какой-то район на юге Мексики (как будто ему нужна родина; ему нужно было одно: Дороти, Дороти в Фарго, Дороти, которую он очень хорошо представлял себе в белом одеянии в его каноэ, затерявшемся на просторах Окефеноки), Дороти, упрятавшая в придаточное предложение (трогательно? изощренно?) признание, что он-единственный человек, которому она пишет письма.
Во время своего второго визита в Нью-Йорк, незадолго до рождества 1940 года, он набрался смелости и совершил бестактность, спросив ее, не согласится ли она все же как-нибудь приехать в Джорджию, хотя бы поглядеть на Саванну и Фарго. Они сидели в кафе на 57-й улице, ужинали, снежинки за окнами почти горизонтально летели через освещенную пропасть. Дороти ничего не ответила, только покачала головой, а потом даже всплакнула. Это было ужасно, но не мог же он все время ходить вокруг да около, ему хотелось убедиться в том, что она не сможет жить на той земле, где ее отца казнили на электрическом стуле. Но если она не в силах жить, так сказать, у могилы, на кладбище пользующейся печальной известностью тюрьмы, значит, он, Джон Кимброу, сможет добиться этой Дороти Дюбуа лишь в том случае, если решится стать кочующим американцем, обитателем trailer[74], одним из displaced persons[75], завоевателей мира. Что угодно, только не это! И дело даже не в том, что он не может, не хочет этого делать ради Дороти, а в том, что это невозможно. Они не могли быть вместе, Дороти и он, и потому было вполне естественно, что они молчали и вместе смотрели на снегопад на 57-й улице. Дороти поплакала, но никто из посетителей кафе ничего не заметил.
Задерживаться на деле Дюбуа у нас нет оснований. Собственно, не такой уж трагический случай. Во время мирового экономического кризиса этот человек связался с преступным миром, стал грабить банки, то есть занялся профессией, которая, в общем, не является самой бесчестной, но ему не повезло: во время нападения на банк в Атланте он убил не одного, а сразу двух кассиров — обстоятельство, заставившее присяжных весьма сдержанно выслушать речь Джона, призывавшего ограничить наказание пожизненным заключением (вообще-то говоря, пожизненное заключение было ему так же отвратительно, как электрический стул). Однако не будем вспоминать об этом! Может быть, Дороти и не стоило так тяжело переживать эту историю, как она ее переживала, но отец есть отец, и тут уговаривать человека бесполезно, да Джон Кимброу и не пытался этого делать.
Преступление ли отца или его казнь подействовали так на Дороти, что она не только не приехала в Джорджию, но в конце концов вообще покинула США? От третьей поездки в Нью-Йорк (в феврале 1941 г.), которую предпринял Кимброу, поскольку его письма возвращались назад, он мог бы себя избавить, потому что люди, открывшие ему дверь на Кларк-стрит в Бруклине, не имели ни малейшего понятия о том, куда она выехала. Он подумал, не стоит ли отправиться в контору неподалеку от Сентрал-парка, где она раньше работала, но потом решил этого не делать. Если его письма возвращаются назад, если она не подает о себе вестей, значит, у нее есть на то свои причины, относительно которых она держала его в неизвестности весьма недолго, ибо, когда он вернулся в Саванну, его уже ждало первое письмо из Мексики. Она писала, в частности: «Подумать только, на какие деньги я училась три года в университете!» Довод трудно опровержимый; и вообще ее решение исчезнуть со сцены было разумным, логичным, хотя и напомнило Джону отца
Дороти, который, сидя в камере, отвечал адвокату, пытавшемуся найти смягчающие обстоятельства, всегда одно и то же: «Знаете, я из тех, кто всегда все доводит до конца».
Нелогично было лишь то, что через некоторое время она начала описывать провинцию Оахака в Мексике так, словно в один прекрасный день эта провинция могла заменить ему округ Клинч в штате Джорджия.
Как отреагировал бы Боб, если бы он рассказал ему эту историю, Кимброу знал заранее. «Ах, вот в чем дело! — воскликнул бы он. — Вот почему ты пошел в армию!» Подобные истории-да, впрочем, любые истории — легко могут привести человека к неправильным заключениям.
В тот день, когда он безуспешно искал Дороти в Нью-Йорке, он схватил воспаление легких, притом лишь потому, что, выйдя из дома, в котором она жила, сам того не сознавая, пошел по Кларк-стрит до самого конца, где она упирается в Ист-ривер, откуда дул такой колючий северо-восточный ветер, что любой другой заметил бы это и немедленно повернул назад. Он же остановился и стал смотреть на непроницаемые, словно сжатый кулак, башни за рекой, лишенные теней в этот час, — воплощение насилия, овеянное ледяными ветрами, дующими с разных сторон; он провел так несколько бесполезных и опасных минут, спрашивая себя, должен он ненавидеть Дороти и южный угол Манхэттена или восхищаться ими, потом наконец, но уже слишком поздно, почувствовал холод и побежал к ближайшей станции подземки. Когда он ехал в экспрессе, который с ревом мчался к мягкому, спасительному югу, у него стала повышаться температура — от Филадельфии к Вашингтону, от Ричмонда к Огасте. Он приехал в Саванну с температурой сорок, уверенный в том, что никогда больше не увидит Дороти Дюбуа. Вот все, что он мог бы ответить Бобу, и это не имело никакого, ровным счетом никакого отношения к тому факту, что несколько месяцев спустя он стоял на учебном плацу в Форт-Беннинге и со скептической ухмылкой прислушивался к рыку одного из сержантов армии Соединенных Штатов Америки.
Маспельт, 17 часов
Он посмотрел в окно, на луговой склон, за которым ничего не было видно и который теперь, в сумерках, был погружен в тень. Майор Уилер полчаса назад вышел на улицу («Надо немного размять ноги», — сказал он) — и теперь вернулся, сел, закурил сигарету.
— Ну, — сказал он, — доктор Шефольд заставляет себя ждать.
— Не могу понять, в чем дело, — сказал Джон.
— Ты должен учитывать, что они могли заболтаться, — отозвался Уилер. — У них есть что сказать друг другу, у этого немецкого эмигранта и немецкого офицера, который хотел бы сбежать от своего высшего военачальника. По-моему, они могут проговорить много часов подряд.
— Но это наверняка означает, что майор Динклаге отказался от своей идеи, — сказал Джон и недоверчиво покачал головой. — Если же он не отказался, если в его календаре что-то значится на эту ночь, то он должен был бы известить меня возможно скорее.
— Это ты так считаешь. А он наверняка раздумал. Готов держать пари на пятьдесят долларов: он давно понял, что его операция не состоится.
— Принимаю пари, — сказал Джон. — Зачем бы он стал требовать к себе Шефольда, если отказался от своих намерений?
— Просто так, — сказал Уилер и выпустил дым от сигареты прямо перед собой. — Вплоть до прихода Шефольда он мог проигрывать свой план сколько угодно.
— Но зачем ему это? — спросил Джон. — Подвергать человека опасности просто так, без всякого смысла?
— Не знаю. — Какое-то время Уилер рассматривал стену за спиной Джона Кимброу, чисто выбеленную стену комнаты в Маспельте, на которой, кроме списка 3-й роты, ничего не висело. — Я полагаю, это его способ распрощаться с нами. Он хочет нас устыдить. Заставив прийти Шефольда, он говорит нам: «Видите, я этого хотел. Действительно хотел. А засим — адьё!»
— Проклятье! — сказал Джон. — А ведь это было бы большое дело. Пожалуй, самое большое за всю войну.
— Какой смысл размышлять о невозможном, — сказал Уилер. — Ты же мне только что сам доказал, что из этого никогда бы ничего не вышло.
— Да, но только потому, что полк не желает участвовать. Вот если бы иметь перевес сил…
Уилер не дал ему договорить.
— Нет, — сказал он, — даже если бы мы имели численный перевес, нет никакой гарантии, что дело не дошло бы до кровопролития. А если погибнет хоть один солдат, наш или немецкий, майору Динклаге останется только пустить себе пулю в лоб. Это он знает абсолютно точно, и ты, Ким, тоже это знаешь. — Он подумал, потом заговорил снова: — Армия могла бы пойти и на потери, если бы решилась осуществить крупную операцию. Препятствие не в этом. Но майор Динклаге не может себе позволить нести потери. Этим я не хочу, конечно, сказать, что армия действует так от великой мудрости, заботясь-как бы это поточнее выразить, — заботясь еще и о совести немецкого офицера. У армии, разумеется, совсем другие причины отказываться от предложения Динклаге. А возможно, нет никаких причин; возможно, это предложение просто ее не устраивает. Армии отличаются невероятной тупостью.