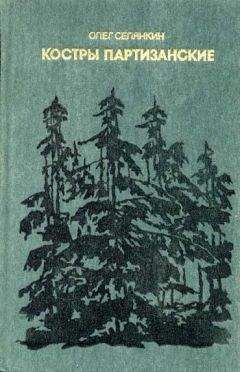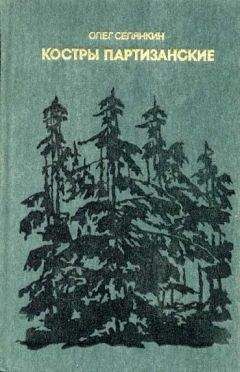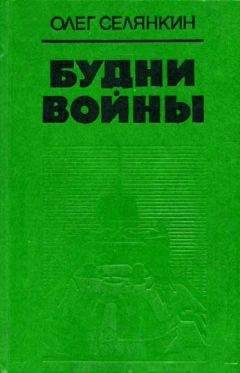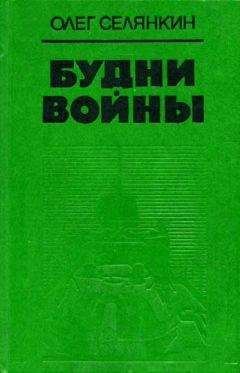Первой мыслью было поднять всю деревню и повести ее за собой, чтобы помочь тушить то пожарище. Она, эта мысль, властвовала секунды две, не больше, и исчезла, уступив место всегдашней осторожности. Он решил, что сейчас самое время проверить свои подозрения, и побежал к дому Клавы, забарабанил в окно.
— Витька, вставай! Тревога! — крикнул он и уставился на занавеску окна.
Наконец она колыхнулась, приподнялся ее уголок. К окну, подошла Клава.
— Подымай своего с постели!
Она, как показалось Аркашке, молчала невероятно долго, потом ответила:
— Он в обход ушел.
Знаем мы эти обходы!
И он уже без спешки зашагал к дому Груни, поднялся на крыльцо, властно постучал в дверь. Она открылась почти мгновенно, словно Груня в сенцах ждала этого стука.
— Твоего тоже нет дома?
— На обходе.
— И давно?
Она глянула на мечущиеся над лесом языки пламени и ответила вроде бы без тревоги:
— С полчаса как ушел.
Такая удача, такая!.. С радости Аркашка вломился в хату самогонщицы, потребовал четверть первака и, торжествуя, вернулся к себе. Он был по-настоящему счастлив. Впервые в жизни.
Выпив самогонки, Аркашка окончательно уверовал, что теперь старшой и все прочие только хрупнут у него на зубах. Даже личное знакомство с господином комендантом района не спасет их от мучительных пыток и виселицы!
В эти минуты он чувствовал себя подлинным властелином деревни и, не хмелея, жадно пил самогонку. Он ликовал от сознания того, что его личные недруги сокрушены, даже ясно увидел, как бились в плаче их полюбовницы.
Постой, постой, а Клавка — она ничего. И Витьки сейчас дома нету…
Набросив на плечи полушубок и схватив шапку, он побежал к ней. Ворвался в дом, не видя беженки с детьми, быстрыми и уверенными шагами прошел прямо в горницу. Клава только глянула на Аркашку и сразу поняла, что этого не упросишь, не умолишь…
Будто в бреду была Клава какое-то время. Даже позднее, уже придя в себя, она долго не могла понять, почему они с Груней и беженкой лежат на Аркашке, почему изо всех сил стараются втиснуть в подушки его голову. Потом, будто пробуждаясь от кошмарного сна, вспомнила, что беженка появилась в горнице сразу, как только Аркашка навалился на нее, и с того момента они уже вдвоем боролись с ним.
А Груня… Она прибежала позже… Сшибла Аркашку на кровать и, чтобы не кричал, ткнула лицом в подушку.
Как страшно, что он совсем не шевелится…
Клава, поняв случившееся, выпрямилась и, словно сейчас это было самое главное, начала приводить в порядок свою одежду. Она не смотрела на того, от которого недавно отбивалась. Ей было противно и боязно глянуть на него.
— Никак перестарались, бабоньки, — тихо сказала Груня и тут же разозлилась на себя за неожиданную оторопь, почти закричала, грубостью маскируя свою растерянность: — Берите его, дуры, и потащим в сенцы, в хлев или еще куда! Лишь бы там морозно было!
Потом прибрались в горнице, затопили печку и в ней сожгли обе подушки. И уселись в кухне, где трое малышей странно смотрели на них своими не по годам взрослыми глазами.
Едва Виктор с Афоней переступили порог, Груня сказала:
— Иди сюда, Витенька, — и прошла в горницу.
Она больше никого не звала, но за ней потянулись все взрослые.
— Вот тут мы его, — начала Груня, и вдруг слезы покатились из ее глаз.
Сразу же, уронив голову на комод, забилась в рыданиях Клава. Только беженка, у которой прыгали губы, не потеряла власти над собой и рассказала о том, как Аркашка ворвался в горницу, как вскрикнула Клава. Все до конца рассказала.
— Хватит вам выть! — прикрикнул Виктор как только мог строго, прикрикнул потому, что невмоготу стало слышать плач. — Не вы, так другие прикончили бы его… Сейчас надо думать, как деревню от беды уберечь.
Может быть, только сейчас женщины поняли, что, если откроется убийство Аркашки, фашисты всю деревню испепелят. И постепенно рыдания Клавы стали стихать, а Груня вытерла полотенцем лицо и отвернулась к окну.
Успокоив женщин, как могли, Виктор с Афоней заторопились к Василию Ивановичу. Там засиделись до поздней ночи. А ближе к утру на околице Слепышей вдруг рванула автоматная очередь. Ей почти тотчас ответили винтовочные выстрелы.
Многие жители деревни попадали на пол, чтобы не зацепила шальная пуля, залезли в подвалы. Лишь несколько смельчаков умудрились краешком глаза глянуть в окно. Они увидели, как из-под крыши дома деда Евдокима вырвался багровый лоскут, как он сначала слизнул снег, а потом зло набросился на потемневшую от времени солому.
Каждый из видевших начало пожара в душе молился, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, но тушить никто не вышел: стрельба, как только начался пожар, стала еще яростнее.
К утру только головешки дымились на пожарище да печь смотрела на мир черным от копоти челом. Это видели все. И еще все видели старшего полицейского, который неторопливо и долго прохаживался около пожарища.
Зато никто не заметил Афони, который в это время шагал в Степанково, чтобы самому пану Свитальскому передать донесение старшего полицейского деревни Слепыши:
«Начальнику полиции района пану Свитальскому от пана Шапочника — старшего полицейского деревни Слепыши.
Имею честь донести вам, что сегодня ночью неизвестные лица пытались проникнуть во вверенную моей охране деревню, но полиция всеми имеющимися силами оказала посильное сопротивление.
В глубокой скорби доношу, что во время этого боя, который длился минут пятнадцать или более, бандитская пуля сразила старосту деревни Аркадия Мухортова, который в порыве безрассудной ярости один бросился на двух неизвестных, поджигавших его дом.
Дом сгорел полностью, а тело старосты пока не найдено. О чем и докладываю вам, оставаясь на посту около пожарища.
И еще осмелюсь доложить, что храбрость бывшего старосты деревни Аркадия Мухортова достойна награждения, что хоть в какой-то степени может уменьшить горе его безутешной вдовы».
5
Сознание вернулось к капитану Кулику от ощущения того, что он лежит на кровати, что щека его касается наволочки, которая еще не утратила запаха недавно глаженного белья.
Он, стараясь не шевельнуться, чуть приподнял веки.
Да, он лежит на настоящей кровати и под настоящим одеялом. И еще увидел бревенчатые стены обыкновенной крестьянской горницы и темное пятно на одной из них, там, где до недавнего времени очень долго висел чей-то портрет. Два окна затянуты не решетками, а узорчатым льдом. Лучи солнца пробиваются сквозь него и сейчас беззаботно играют на графине с водой, который стоит на тумбочке.
Капитан Кулик устало опустил веки, и тотчас, словно наяву, полыхнуло в ночи яркое пламя, снег окрест показался залитым алой и горячей кровью.
Только убедившись, что пламя яростно пожирает все пять цистерн с бензином, начали поспешный отход. Он, капитан Кулик, и три его бойца шли замыкающими.
Уже появилась надежда, что выскользнули, когда вдруг с дороги, которую нужно было пересечь, ударили очередями вражеские автоматы. Немедленно меж деревьев холодными искорками замелькали трассирующие пули. Одна из них сразу же нашла его ногу. Через минуту или того меньше был ранен и во вторую.
Капитан Кулик и сейчас с удивлением думал о том, почему тогда у него не было страха. Упав, он просто поудобнее устроился за пеньком и дал в сторону немцев длинную очередь. Умышленно — длинную, умышленно, как цель, обозначил себя: пусть немцы на нем сосредоточат свой огонь; может быть, товарищи воспользуются этим и выскользнут из смыкающегося кольца.
Но три бойца мигом оказались рядом, тоже упали в снег и тоже обозначили себя очередями. Тогда он крикнул:
— Отходите!
Они не подчинились.
— Приказываю отходить! — гаркнул он со всей возможной властностью в голосе.
— А ты? — спросил тот, который лежал почти рядом.
— Отходите!.. В ноги я ранен.
Капитан Кулик не знал, сколько времени они вчетвером удерживали немцев около себя. Единственное, что он хорошо помнил, — кровь лилась из его ран и временами темнело в глазах. Как сквозь кошмарный сон, он слышал шум многих машин на дороге и голоса гитлеровцев. И отчетливо видел, что теперь трассирующие пули плотной сетью накрыли снег, в котором он лежал; даже на сантиметр нельзя стало приподняться.
Очнулся — увидел сапог у лица. Этот сапог носком своим осторожно и брезгливо поворачивал его голову так, чтобы лицо оказалось обращенным к черному небу.
На мгновение он, капитан Кулик, увидел множество звезд, потом луч электрического фонарика ударил в глаза, ослепил.
— Встать! — приказал немецкий офицер тихо, но с металлическими нотками в голосе.