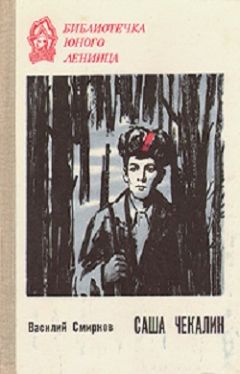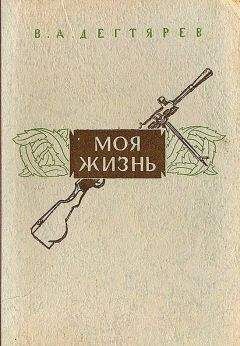Неизвестно, где теперь приютилась его семья — жена, двое сыновей-школьников и маленькая дочка Светланочка. Эвакуировались они в последний день, так же как и семья Тимофеева. Задержала ненужная скромность: что скажет народ, увидев, как районные работники, поддавшись панике, увозят от опасности свои семьи. Не знают жена и дети, какая участь выпала на его долю. Да и живы ли они?
— Это ты, Любаша? — Ефим Ильич оборачивается на звук шагов.
— Может быть, вам помочь? — нерешительно спрашивает Люба.
— Нет, мне помогать не надо, — резко, почти сердито отвечает Ефим Ильич. — Привыкаю, Любаша, один ориентироваться. Скоро буду с нашими на операции ходить… Как… Маша вернулась?
— Вернулась, Ефим Ильич… Спит в землянке как мертвая… — улыбается Люба.
— Задание выполнила?.. — спрашивает Ефим Ильич.
— Говорит, все удачно… Выполнила.
Костров облегченно вздыхает. Вместе с Любой он возвращается в землянку, постукивая впереди себя палочкой.
— Что-то наши задержались… — Ефим Ильич, ощупью нашел свое место на нарах.
Люба молчит. Думает она в эту минуту о Мите, о Саше… Как он там, в Песковатском? Наверное, скучает… «Нам-то здесь что… Как-то тебе там, Митя?»
Хотя и не было разговора в землянке, но Люба догадывается, что Машенька ходила в город по очень важному делу. Может быть, намечается план освободить Митю Клевцова. Но какой?
Ворочается, не спит на нарах Костров. Ефим Ильич думает: так мало еще времени сражался партизанский отряд, а уж столько потерь: погиб Трушкин, Митя Клевдов и Гриша Штыков в руках фашистов. Он контужен, слепой. Саша болен. Да и весь отряд где-то застрял, и неизвестно, что с ним. О Тане н Клаве, отправившихся выполнять приговор над предателем-старостой, тоже ничего не слышно.
— Да, долго наши девушки не возвращаются, — про себя вздыхает Костров.
— Не спите, Ефим Ильич? — спрашивает Люба. Костров не сразу поворачивает к ней свою забинтованную голову.
— Думаю, Любаша, как-то наши девушки… Справятся ли они с заданием?
— Сердце у меня за них тоже болит… — тревожно откликается Люба. — На опасное дело пошли. Таня, я знаю, справится. Она решительная. А вот Клава?.. Она и раньше была боязливая. Я в одной школе, в одном классе с ней училась… Всего она раньше боялась. И мышей, и лягушек… Пора бы им уж вернуться… Может, уже и не живы… — мрачно заключает Люба. — Одни мы с вами, Ефим Ильич, остались здесь да Машенька…
— Ну, ну, Любаша… В панику не впадай…
И оба умолкают. Только слышно, как стучат, бегут вперед часы-ходики. Горит тусклый огонек в землянке. Снаружи он не виден. Можно ночью пройти в двух шагах от землянок и не заметить жилья партизан.
Засыпает Люба.
Бодрствует только один Ефим Ильич.
Таня и Клава ушли на следующий день после того, как отправили Сашу в Песковатское.
Люба беспокоилась не зря. Таня и Клава пошли впервые на столь опасное задание, не зная, вернутся ли они живыми. Та и другая на всякий случай оставили прощальные письма своим близким, которые теперь хранились у Любы.
…Девушки шли нелюдными дорогами. В руках — по узелку с продуктами. У Тани запрятан в складках одежды револьвер. Выдавая себя за возвратившихся с окопных работ, девушки остановились в большом, растянувшемся почти на километр селе на ночлег. Хозяйка дома, бодрая еще старушка, оказалась разговорчивой и смелой на язык.
— Пришел к нам какой-то чужак… — жаловалась она. — Родом-то он, говорят, из-под Лихвина, песковатский… Теперь мудрует над всеми. Выгнал из дому мою племянницу. «Ты, — говорит, — красноармейская семья, поживешь и в погребе». Хозяйничает теперь в чужом доме… Как только земля держит такого подлеца, — возмущалась старушка, — хотя бы партизаны его постращали.
У этой женщины девушки прожили несколько дней, внимательно следили за дорогой, приглядывались к встречным. Но староста на пути не попадался.
Тогда девушки решили зайти к старосте домой, будто бы для того, чтобы попросить у него справку-разрешение идти дальше в прифронтовую зону. Приготовились… Дом, где жил староста, они уже днем хорошо изучили снаружи. За избой шла тропа к овинам. А там неподалеку — лес. Стемнело… Клава нерешительно у крыльца остановилась — страшно заходить в избу.
— Может быть… завтра, на улице… — прошептала она.
— Пойдем… — Голос у Тани звучит глухо. Она решительно поднялась на ступеньки, постучала. Какая-то женщина открыла им калитку в сени.
— Пьяные все… Не ходите… — шепотом предупредила она. Но Таня, а за ней и Клава прошли вперед. Открыли дверь в пахнущую теплом и чем-то кислым избу. Староста Кирька Барин был не один. За столом сидели еще несколько человек, все в гражданском, по виду полицаи.
— Что нужно, красавицы? — спросил староста, выйдя из-за стола и подбоченясь. — Ночлега ищете?
Выслушав девушек, староста сердито затопал ногами, закричал:
— Какую еще справку! Никому не даю! От Советской власти получайте справку.
Видимо, староста остался доволен своей остротой и вернулся к своей компании.
— Ступайте в Лихвин, — посоветовал он девушкам. — Там, в котлендатуре, получите справку.
Девушки продолжали стоять у порога.
— Садитесь… Гостями будете… — пригласил один из полицаев, бритоголовый, краснощекий, в расстегнутом пиджаке.
На столе стояли бутылки с самогоном, разная снедь, кипел, пофыркивая, медный самовар. Разговор у собравшихся, как поняли девушки, шел про партизан. Староста, упомянув фамилию Чекалина, смачно выругался. Девушки переглянулись, замерли. Тане вдруг стало страшно поднять руку и выхватить револьвер. Кирька Барин рассказывал, как в Песковатском схватили Чекалина.
Таня, побледнев, прислонилась к стене. Потом медленно вышла в сени. Клава тоже вышла за ней.
— Дай мне револьвер, — шепнула в темноте Клава, видя, что Таня ничего не может предпринять. Она решительно отобрала у Тани револьвер, открыла дверь и, шагнув за порог, два раза подряд выстрелила в старосту.
Поздно вечером Сашу привели в комендатуру.
Лысый франтоватый офицер с железным крестом на сером кителе и с вырезанной в виде черта коричневой трубкой в зубах сидел за большим столом, покрытым зеленым сукном. Это был тот самый офицер, у которого Саша накануне в комнате рылся в бумагах. Он узнал его по фотографии. У зашторенных окон, развалившись на стульях, расположились другие офицеры, очевидно чином ниже, в потрепанных кителях. Позади Саши, у двери, стоял начальник полиции в кожаной куртке и с ним два дюжих краснощеких полицая.
— Сколько партизан в отряде? — спросил офицер с железным крестом, ощупывая Сашу глазами.
Саша молчал. Он решил молчать, о чем бы его ни спрашивали. Выпрямившись, со всклокоченной черноволосой головой, в расстегнутом пальто и разорванной гимнастерке, он стоял перед офицером, всем своим видом показывая, что не покорится.
— Где находится партизанский отряд?
Маленький востроносый переводчик четко выговаривал слова.
Саша молчал. В эту минуту он не чувствовал никакого страха, совершенно не думал о том, что его ожидает, и внимательно приглядывался к окружающему.
На столе рядом с массивным мраморным письменым прибором Саша заметил настоящий человеческий череп, белый, с огромными пустыми глазницами и двум рядами длинных желтоватых зубов.
Темно-карие глаза партизана с такой ненависть смотрели на фашистов, и такая непреклонная была в них сила, что подошедший ближе к Саше рослый начальник полиции злобно засопел и, нагнувшись к переводчику, тихо сказал:
— Волчонок. У них вся порода такая. Добром от него ничего не добьешься.
Переводчик, не поняв, что это говорят только для него, быстро, услужливо перевел, пожимая плечами я разводя руками, словно извиняясь, что партизан оказался такой упрямый.
— Волчонок? — переспросил офицер по-немецки нервно барабаня пальцами по столу. Он еще не терял надежды добиться чего-нибудь. Это было тем более важно, что партизана несколько раз видели в городе вероятно он встречался с подпольщиками.
— Мы верим тебе… очевидно, партизан ты не знаешь. Но откуда у тебя были гранаты?.. Где ты жил это время?.. К кому приходил в город?.. Назови фамилии и тебя не будут держать, отпустят…
Саша продолжал молчать, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.
Один из офицеров подскочил к нему и наотмашь ударил по лицу. Неожиданно для всех Саша ринулся к столу, сшиб с ног переводчика, схватил тяжелую мраморную чернильницу и, ударив офицера, бросился к зашторенному окну. Но в ту же минуту, сбитый с ног полицаями, он лежал на полу у окна. Полицаи били его до тех пор, пока он не перестал шевелиться.
Саша очнулся на дворе комендатуры, когда ему на голову выплеснули ведро ледяной воды.