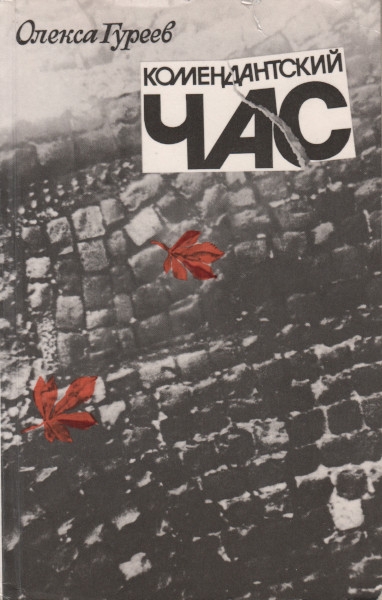пытали? — На самом же деле она думала о том, раскроется ли ее связь с гестаповцем.
— Раз всего ударили. Но само пребывание в том подземелье — сплошные адские муки. Спертый воздух, крысы, трупы людей. Еду подают через окошечко в дверях камеры. На завтрак и ужин — черный кофе без сахара, на обед — какая-то похлебка в пол-литровой консервной банке и кусочек темного хлеба. Все несоленое, чтобы истощенные люди не пухли, а только худели. Страшно там. Особенно когда ведут на расстрел кого-нибудь. Кричат в коридоре: «Прощайте, товарищи!..» Один голос мне показался даже знакомым, голос женщины. Расстреливают почему-то ночью.
Лиза вздрогнула и поежилась, как от холода. Он обнял ее, чтобы согреть и успокоить, и вдруг почувствовал в ней неясное сопротивление. Провел ладонью по ее плечу, тихо сказал:
— Постели нам. В комоде есть чистые простыни?
— Есть.
— Постели. Я хочу по-человечески отдохнуть после всего. И ты отдохнешь.
— Погоди, Иван. Нам надо поговорить.
Смрад. Тяжелый тюремный смрад от его одежды. На улице он рассеивался, а здесь, в комнате, невозможно им дышать. Очевидно, это и отталкивало Лизу. Иван сбросил с себя пиджак, сорочку, выбросил их за дверь, как хлам, пошел к умывальнику. Вернулся посвежевший, взбодренный, сел на свое место. От его розового тела, натертого эрзацмылом немецкого производства, повеяло каким-то парфюмерным запахом.
— Теперь пойдем, Лиза.
«А тот называл меня Лизетт, — подумала она. — Лизетт... Как красиво звучит по-французски!»
— Не торопись, Ганс, еще успеем.
Иван посмотрел на нее удивленно. Сперва в глазах мелькнуло что-то веселое, потом взгляд посуровел, веки вздрогнули и сузились. Проговорил глухо:
— Почему ты назвала меня Гансом?
— Тебя? — испуганно удивилась Лиза.
— Ну да, меня.
— Странно... — Она сделала движение, будто хотела вскочить.
Так же глухо Иван добавил:
— Следствие по моему делу тоже вел Ганс, Ганс Мюллер. Скажи, он не приглашал тебя к себе?
Лиза растерялась.
— Когда?
— Да вообще, неважно когда.
— А-а... Этот Мюллер?
— Да.
Щеки ее покраснели.
— Понимаешь, Ваня, мы случайно встретились возле здания гестапо. Я сказала, что ты мой жених, просила отпустить тебя. Ведь отпускали же они пленных из концлагерей, когда какая-либо женщина находила там своего мужа. Он предложил мне позавтракать вместе с ним, чтобы спокойно продолжить разговор...
— И ты согласилась?
Широко раскрытые глаза, наполненные страданием и мольбой, уставились на Ивана.
— А что мне оставалось делать? Отказаться? Плюнуть ему в лицо? Или оставить попытки спасти тебя?
— Значит, ты была у него? — упрямо допытывался Иван.
Окончательно загнанная в тупик, морально сломленная, ответила решительно:
— Была...
Пощечина раздалась гулко, как выстрел.
— Иван! — вскрикнула в отчаянии Лиза, откинувшись на спинку стула. — За что?! Надо радоваться, что ты жив!
— Молчи!.. — обозвал ее грязным словом.
С минуту они сидели неподвижно и тихо, как мертвые. Только сейчас Иван осознал по-настоящему, как он любил Лизу. Первое знакомство в театре, во время просмотра художественной самодеятельности, первый поцелуй... До сих пор она вся, вся принадлежала ему, а теперь? Это ужасно. Это самое гадкое — измена, заслуживающая только мести. Ну, что? Убить ее? Растоптать, как ползучую тварь? А потом? Что он будет делать сам? Кто пойдет в гестапо, когда его вновь арестуют? Они? Нет, они не пойдут. Они даже будут избегать его, узнав, что он был там. «Иван! — откуда-то издалека звучал в ушах ее голос, обернувшийся эхом. — Надо радоваться, что ты жив». И верно, он — жив. Жив! Лиза права: вот что главное. Грозила страшная опасность — пытки, расстрел — и миновала. Миновала? Да. А надолго ли? И знает ли он, что произойдет завтра? Не придется ли ей снова спасать его? Изменница... Возможно, что этой «изменнице» надо быть благодарным за его спасение. А он...
Разум все же взял верх над чувствами. Иван сказал:
— Лиза, извини меня. Я глуп. В конце концов, это же твоя добрая воля — сидеть сейчас со мною или уйти прочь, уйти даже к кому-то другому. И я не имею никакого права задерживать тебя. Прости. Я только должен знать, оставил ли он тебя в покое?
Она будто проснулась, посмотрела на Ивана долгим, страдающим взглядом, сокрушенно покачала головой:
— Нет...
— Как так?
— Велел, чтобы я каждый вторник бывала у него.
— И ты...
— Вынуждена бывать.
Он хотел запротестовать: «Я этого не позволю!» Но сдержался. Сказал другое:
— Мы оба попали в сети. Надо спасаться. Только восстание сметет их. Только восстание.
Он ошибочно думал, что нашел свою спасительную тропинку, возможно единственную среди многих тысяч тропинок.
Работа железнодорожника пришлась Павловскому по душе, это заметил и рабочий, передававший парню эстафету. Они вместе обошли главные стрелки, побывали на складе масел и различных приспособлений для путеобходчика и лишь после этого принялись расчищать стрелки от снега. Щеголяя, Павловский показал своему наставнику, что может работать проворнее и продуктивнее его. Две трети того, что предстояло сделать им двоим, взял на себя. Часа через полтора он не выдержал:
— Передохнем? — Его спина под стеганкой взмокла, на ладонях появились свеженатертые мозоли. — Стараемся, а на кой ляд?
Рабочий с доброжелательной иронией ответил:
— Сам же перестарался, никто тебя в шею не гнал. Молодо-зелено...
От станции отходил поезд. Паровоз, высвистывая парами, медленно потащил за собою состав и освободил путь, на котором они работали. Поначалу был виден только один локомотив, извергавший в небо густые черные клубы дыма, а потом показалась длинная вереница платформ с орудиями, в середину которой, словно для специального оформления серой ленты, были вмонтированы три зеленых пассажирских вагона. Эшелон еще не набрал скорость, поэтому двигался почти бесшумно; опершись на ручку лопаты, Павловский следил за орудиями, и ему казалось, что они не стоят на платформах, а, как птицы, проплывают в воздухе, выставив вперед свои грозные металлические клювы. «Рус, покажи дорогу на Урал!» — крикнул немец из открытых дверей пассажирского вагона, другой, стоявший за его плечом, расхохотался. «Погодите,