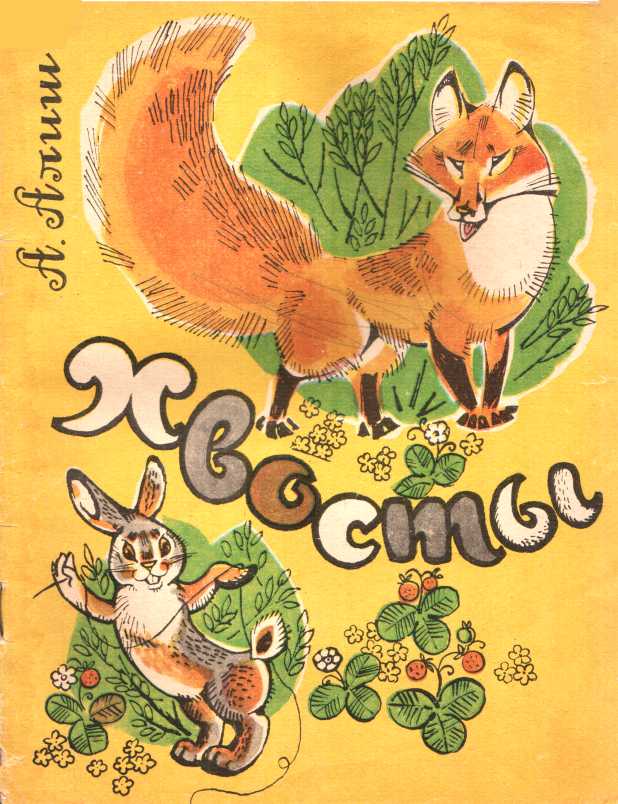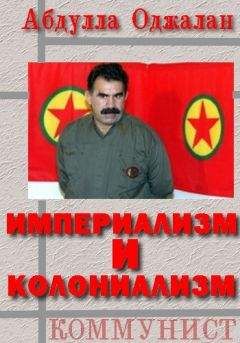было в норме, на лбу ни росинки, тщедушное, выпаренное – ни одного лишнего грамма – тело Кудинова не подвержено усталости.
Майор промолчал, усмехнулся – может быть, оно и так – всякого солдата, пришедшего в Афганистан, ждет беда. Старые политики еще в прошлом и в позапрошлом веках считали Афганистан неприступным и злым. Афганистан – это ключ к Востоку – кто ключом овладеет, тот и отопрет Восток. Только вот завладеть золотой отмычкой не далось никому: ни англичанам, ни персам, ни индусам, ни туркам, ни русским.
– Придет время – вшей мы поместим в герб ограниченного контингента, – пробасил молчаливый Королев. Приподняв голову, он смотрел в сторону бархана, на котором, широко раскинув ноги, словно для долгой прицельной стрельбы, лежал Шаповалов. Королев держался своего дружка – все-таки свой, из чалдонов, земляк, вдвоем горе легче делить, а о радостях и говорить не приходится; и вообще в отряде все держались друг друга, разбившись на пары: Шавкат держался Бобоходира – точнее, наоборот, Бобоходир Шавката. Шавкат был оторви-головой, а Борис воспитан на почтении к старшим; скажет ему седобородый душман: иди сюда, я тебя малость ножичком пощекочу – и Бобоходир не осмелится ослушаться старшего, пойдет; липецкий парень Плетнев держался абхазца из Пицунды Витюши Агрбы, а хитрый малыш Кудинов постарался сесть на шею начальству – он держался майора и подчинялся только ему. Да и то не всегда.
– Половина истории построена на ограниченных контингентах, – успокоив дыхание, сказал майор. На дне песчаной воронки уже лежала тень, дело пошло к вечеру, хотя зайдет солнце еще не скоро. – Всякая война – это походы ограниченного контингента за пределы родного дома. Что такое, например, татаро-монгольское иго? Это временное пребывание ограниченного контингента татаро-монгольских войск на нашей земле по просьбе прогрессивных русских князей.
– Правда, наши предки вытурили этих добровольцев с большим трудом. – Кудинов засмеялся весело, беззаботно, будто мальчишка. – Никак ребята не хотели уходить, зубами за камни держались. Еле-еле распрощались с ними на Куликовом поле. А почему, спрашивается, выперли? Да потому, что надоели.
– Все параллели проводишь, Кудинов?
– А как же, товарищ майор! Это же в характере человеческом заложено – проводить параллели. Хлебом не корми – дай провести чего-нибудь такое – лишь бы мел в руках не крошился.
– И чего тут хорошего?
– Ничего, кроме характера, товарищ майор. Все то же…
– Подъем! – скомандовал Литвинов. – Отход прикрывает следующая пара – Шаповалов с Королевым! – Он вскарабкался на бархан, вынырнул из тени, будто из подземной мглы, из некоего колдовского сосуда, осветился солнцем и тормознул – ноги его в облегченных ботинках поползли в стороны. – Стоп! – выкрикнул майор. – Зьяр сюда ведь обязательно придет. Кудинов, ставь две мины, кучкой. А внизу, в песке, пару лимонок зарой! Фугас будет. – Литвинов отгреб ногой мелкую желтую кашу.
По саперным правилам фугасом считается всякий усиленный заряд, даже такой малый, как этот: две противопехотных мины и две гранаты-лимонки – предпраздничный подарок от шурави. В честь Первого мая.
Кудинов работал лихо, ловко, будто песню пел. У него, как у гимнаста, до мелочей отработавшего свой номер, не было ни одного лишнего движения. Кудиновым можно было любоваться, как музыкантом высокого класса; он в несколько минут заминировал выход из воронки, засыпал следы песком, прошелся рядом с минами, поглубже вдавливая ступни, оглядел свою работу и остался доволен.
– Все «прохорам» виднее, куда ступать, будет, – сказал он, – за очками лезть не надо.
«Мина один только раз пройдет. Ну, может быть, два, больше вряд ли, – подумал Литвинов, – а третьего раза и не надо, этот заряд собьет у них прыть – бежать за нами потише станут. И то верно!»
Скомандовал:
– Вперед!
Оглядев напоследок затененную воронку, Литвинов в три ловких прыжка обогнал группу и, выставив перед собою ствол «калашникова», споро пошел первым. Пройдя метров триста, резко свернул влево, двинулся точно на запад, в белесый, ровно бы задымленный небесный провал, будто на тот свет.
Когда о чем-то думаешь, идти всегда бывает легче, – ноги сами переступают, выискивая среди сыпучей массы место потверже, понадежнее, дыхание не срывается, пот не выедает глаза. Литвинов думал о доме, о жене и двух маленьких дочках. Он поймал себя на том, что все чаще и чаще начинает думать о доме. Это что же, примета? Или же он просто соскучился по своим, по тихому, чистому пруду, украшенному, как и в прежние времена, птичьими будками и резным деревянным помостом, по ручным лебедям. По маленькой своей квартирке, в которой место ему находилось только на кухне, но он никогда не сетовал на тесноту, всегда был рад свободной табуретке, уголку стола, где можно было что-то положить; потом он раздвигал в стороны кастрюли, тарелки и сковородки – и места уже образовывалось побольше, он с завидной легкостью нес свой семейный крест. В офицерской среде Литвинов считался образцовым семьянином.
В груди у него возник мокрый хрип, словно легкие забило болотной тиной, лягушачьим пометом. Литвинов кашлем выколотил из себя мокрую пробку, отплюнул ее далеко в сторону, послушал, как сзади идет группа, и чуть сбавил скорость: хоть и привычны были ребята к броскам, а пустыня брала свое – она мастерски изматывала людей. Литвинов, борясь со слабостью, сжал зубы, раздавил что-то коронками – сзади, на коренных зубах, несмотря на молодость, у него уже стояли коронки, улыбнулся неуверенно: хоть и лишены он и его группа прошлого, хоть и стали они людьми без времени и живут теперь вне времени – пустыня выдавила из них все, чем они когда-то жили, а прошлое у них все-таки есть, оно длинной строчкой вписано в жизнь Литвинова, и как бы трудно ни было, от прошлого не отказаться и прошлое не должно быть отрезано от настоящего и, тем более, – от будущего. Человек без прошлого – это человек без будущего.
«Когда тяжело, надо думать о доме… когда тяжело, надо думать о доме…» – впечатывал Литвинов слова в свои скорые шаги, стараясь восстановить перед глазами похудевшее Ольгино лицо с нежной кожей, трогательным пушком на скулах и чистыми серыми глазами, почему-то совершенно неспособными улыбаться; глаза ее всегда были полны серьезности, порядочности, чего-то очень надежного. Ольга была настоящей офицерской женой.
Ему было тревожно за нее – все ли дома в порядке, знает ли она, что он жив? Не то ведь их ведомство такое – все, что выходит за рамки работы, считается слюнями, изюмом, слабостью, лишний раз никогда не сообщат, что кормилец еще таскает по свету ноги, не позвонят домой, не ободрят; Ольга дважды жаловалась на это, а потом, поняв, что жаловаться бесполезно, перестала.
Декабрьской ночью Литвинова подняли с постели – телефонный звонок был настырным; майор сразу почувствовал, что