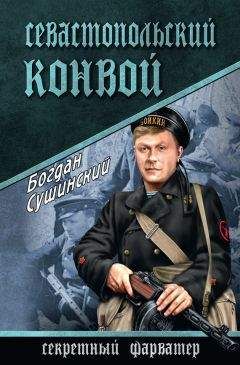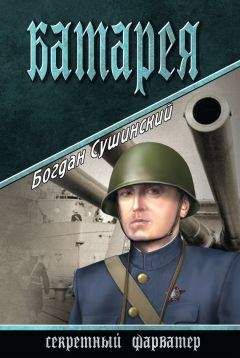– Хотите, чтобы я заставил его подписать такую же бумаженцию, какую только что подписал сам? – прямо поинтересовался Олтяну.
В глазах бригадефюрера вспыхнул, но тут же погас какой-то недобрый огонек. Однако видно было, что свое презрение к этому унтерменьшу он гасил так же долго, как и сигару, которую в эту минуту старательно и зло ввинчивал в фарфоровую пепельницу.
– В принципе, именно этого мы от вас и потребуем, агент Центурион. На допросе в сигуранце вы показали, что общались с русским капитаном. О чем? Как он вел себя? Какое впечатление производит? Если в воспроизведении разговора с русским вы станете злоупотреблять некоторыми длиннотами, я вас прощу. Поэтому изощряйтесь в красноречии, у вас еще никогда не было столь заинтересованного слушателя.
Олтяну и в самом деле изощрялся в своем повествовании. Теперь он уже не сомневался: его карьера, само отношение к нему сигуранцы, зависят от того, насколько убедительным и важным покажется пересказ встречи с русским офицером, которого СД тоже, очевидно, намеревалось завербовать.
– Так он что в самом деле свободно владеет румынским? – спросил фон Гравс, когда красноречие капитана стало истощаться.
– Не хуже любого бессарабца. И с тем же акцентом.
– Но если бы он являлся сотрудником разведки, то не стал бы столь быстро и бесплодно прощаться с вами.
– Я подумал о том же. Офицер разведки под любым предлогом захотел бы поговорить со мной более основательно.
– Разве что рассчитывает, что вскоре опять встретится с вами? – провокационно поинтересовался бригадефюрер.
– Но и тогда русский офицер попытался бы хоть как-то намекнуть на продолжение знакомства.
– В логике вам не откажешь, – проворчал фон Гравс, чувствуя, что разговор опять зашел в тупик.
Интуитивно бригадефюрер чувствовал, что за этим жестом капитана Гродова скрывается нечто большее, нежели обычное фронтовое рыцарство, и что сам этот офицер способен вызвать значительно больший интерес у германской разведки, нежели обычный артиллерист. Однако все эти предположения основывались пока что только на интуиции.
– Хорошо, капитан, идите. Пока что возвращайтесь в свою часть, когда нам понадобится лицезреть капитана Олтяну, мои люди вас отыщут.
– А что… сигуранца?
– С каких это пор сигуранце позволено заниматься агентами СД? – удивленно пожал плечами бригадефюрер, закуривая новую сигару. Но все-таки, на всякий случай, запомните, что в СД складывать оружие по первому же требованию русских не принято. СД – это служба безопасности войск СС, в которых заведено сначала складывать голову, а уж затем оружие, а не наоборот, как это повелось в этой вашей, – с вальяжной презрительностью взмахнул он изнеженной кистью, – румынской королевской армии.
Когда катера с «пардинцами» прибыли на мыс, бойцы радовались им так, словно это было какое-то крупное пополнение. Но коменданта плацдарма ждал особый сюрприз: на палубе судна, приставшего к берегу вторым, он вдруг увидел… Терезию!
– Это еще что за видение? – как можно суровее поинтересовался он у сошедшего на берег Мищенко.
– Теперь это – санитарка морской пехоты Терезия Атаманчук, – вежливо объяснил ему мичман. – Если бы не она, двое из троих моих раненых вряд ли выжили бы. Она же всех троих перевязала, за всеми ухаживала.
– Но по гражданству своему она – иностранка.
– По гражданству своему она – настоящая украинская казачка, – возразил мичман. – Причем от деда-прадеда, потомственная. Я уже написал записку для начальства о том, как она помогала нашим бойцам, как одного из раненых вытащила из-под огня. Да что там, геройская баба. Вы от своего командирского имени тоже напишите какое-то поручительство перед начальством.
– Если вы так настаиваете, мичман, – саркастически улыбнулся Гродов.
– Кстати, родом она из-под нашего, советского теперь уже, Измаила. В доме сестры ее и можно будет, суетой нашей военной воспользовавшись, прописать, – объяснял моряк, приближаясь вслед за капитаном к трапу БКА-134. – Но лучше всего попросить командование флотилии, чтобы ее тут же зачислили санитаркой к наш лазарет, а значит, и на довольствие поставили.
– Ты – настоящий мужик, мичман, – едва заметно тронул он за предплечье Мищенко. – Я и раньше не сомневался, но теперь… Ты же знаешь, как для меня важно помочь этой женщине.
– Разве трудно было догадаться? Тем более что оставаться в поселке ей уже нельзя, сигуранца тут же арестовала бы ее. А знаете, кто предупредил нас о приближении подразделения противника и вообще помог добраться до причала, когда румыны уже были в поселке?
– Жандарм, которому я в свое время помог?
– Точно, жандарм. Он уже получил приказ арестовать всех тех, кто «активно сотрудничал с советскими оккупантами». И первой в этом списке, согласно чьему-то доносу, значилась она, Терезия Атаманчук. К слову, он велел кланяться «господину капитану».
– По крайней мере, этот жандарм умеет быть благодарным. Что тоже немаловажно.
Женщина сошла по трапу на берег, и несколько мгновений они стояли, скрещивая взгляды. У Терезии хватило выдержки не броситься в его объятия на глазах у всех, и уже за это Гродов был признателен ей.
– Я хочу остаться с тобой, здесь, на мысе, – едва слышно произнесла женщина.
– Ни в коем случае.
– Но я ведь специально…
– Даже не уговаривай. Благодари Бога, что позволил тебе вырваться из одного ада, второй тебе не нужен. В Измаиле, уверен, тебе тоже оставаться нельзя, очень скоро там уже будет сигуранца. Сейчас я напишу письменное ходатайство командующему флотилией и начальнику городской милиции, чтобы выдали тебе документ как жительнице этого города и оставили в госпитале. По телефону тоже переговорю с начальником штаба флотилии. Он наверняка поможет. Все, возвращайся к раненым, санитарка.
– Раз ты так приказал… – покорно согласилась Терезия. – Ты лучше понимаешь, что здесь, на этих берегах, сейчас происходит. К тому же нам обоим так будет спокойнее, правда?
Едва он проводил женщину взглядом, как у плацдармного причала появился комбат полевых стрелков.
– Коль уж катера подошли сюда, – проговорил он, глядя куда-то в сторону, – я отправлю взвод своих бойцов на тот берег.
– Не слишком ли торопимся, капитан?
– Выполняю приказ. Все равно дело идет к вечеру. Ночью суеты будет меньше.
– Ну-ну, только сам не вздумай садиться на катер.
– Почему? Именно это я и намеревался сделать.
– Не советую.
– Это что, запрет, угроза? Я буду встречать своих бойцов на том берегу. Тех, кто остается здесь, посадят на катера мой заместитель и комиссар.
– Там тебя под трибунал могут отдать или же просто заподозрят в трусости. Неужели ты этого не понимаешь? По военной традиции и по совести, ты не имеешь права оставлять плацдарм, пока не снимешь с него последнего своего бойца.
– Что-то в уставах РККА я такого пункта не припоминаю.
– Такого предписания для командиров – пускать себе пулю в лоб за проявленное малодушие – уставы тоже не предусматривают, а, поди ж ты, офицеры нет-нет, да и стреляются…
Как раз в это время по трапу БКА-134 спускался на берег один из раненых моряков с перевязанным предплечьем.
– Я лучше останусь здесь, с вами, товарищ капитан. Рана у меня пустяшная, дня через два забудется.
Гродов окинул взглядом невпечатляющую фигуру парнишки и слегка похлопал его по здоровому предплечью.
– Ты – настоящий морской пехотинец, парень. Только поэтому приказываю: марш назад, на катер. На том берегу, после того как рана заживет, будешь нужнее. Да и войны на тебя хватит.
На листиках из командирского блокнота Гродов быстро набросал два коротких письма, и, пока первый взвод полевых стрелков подтягивался к причалу и погружался, даже успел позвонить начальнику штаба флотилии.
– Это личная просьба к вам, товарищ капитан второго ранга, – завершил он короткий рассказ о судьбе Терезии Атаманчук. – Мы не имеем права оставлять сигуранце на расправу украинку, которая родилась здесь, в Украине, и которая, добровольно вызвавшись стать санитаркой, уже спасла нескольких краснофлотцев.
– Понял. Поручу. Твоей красавицей займутся, – отстреливался лаконизмами начальник штаба. – Санитарок в нашем лазарете как раз не хватает. Да еще таких, уже побывавших в настоящем бою.
Вручив письма Терезии, капитан, вместе с еще несколькими морскими пехотинцами, наблюдал, как совершали посадку бойцы Хромова. Все они чувствовали себя неловко, как обычно чувствуют себя люди, которые оставляют своих друзей на произвол судьбы. Хотя и десантники, и морские пехотинцы флотилии понимали, что отбывавшие с плацдарма полевые стрелки всего лишь подчинялись приказу.
Ну, а сам Хромов ступить на борт бронекатера в тот раз так и не решился. Когда поздно вечером подошли суда, которые должны были снять остатки его батальона, капитан демонстративно взошел по трапу последним. Но, восходя на него, все-таки набрался мужества произнести: