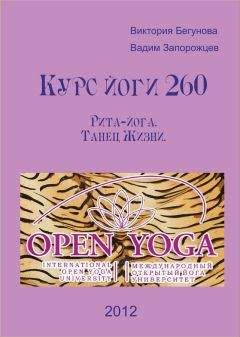— Да эвакуировался к нам недавно. С Украины, что ли. Он в каждом городе застревает, пока немцы близко не подойдут. Теперь вот к нам приехал. Работа там вечерняя. Легкая. Оторвал билеты и сиди. Днем — в школу, вечером — на работу.
— А возьмут?
— Помогу! — пообещала тётя Даша. — У меня там сосед сценой заведует: декорации передвигает, свет обеспечивает. Я его попрошу, он похлопочет. Ну, спасибо за мёд, за чай. Я теперь так согрелась — никакой мороз не страшен. Ну, Юрка, давай своё письмо!
Тётя Даша ушла, громко хлопнув дверью.
В середине дня солнце так пригрело, что тоненькие сосульки, висевшие под крышей, заслезились, заплакали, а потом и вовсе потекли ручьём. В какие-то полтора-два часа снег осел и потерял своё великолепие. На куст сирени, стоявший у крыльца, слетелись воробьи и затеяли перепалку. Зойка, закутанная с головы до ног, топталась у крылечка и, безотчётно улыбаясь, смотрела, как они суетятся, перескакивая с ветки на ветку, слушала их громкий крик, и на душе у неё было хорошо: просто замечательно выздороветь после такой тяжёлой болезни!
Тёплая погода в эту пору у них не редкость. Старики называли погожие дни с оттепелью «весенними окнами», потому что через такое «окно» уже весну видно. Мягкий, прогретый солнцем воздух приятно заполнял лёгкие и возрождал к жизни каждую клеточку Зойкиного организма. Только сейчас она подумала, что могла бы умереть и никогда бы уже не дышала таким изумительно вкусным воздухом. «Нет, это было бы несправедливо, — без страха, даже весело думала Зойка. — Жизнь только начинается». Она чувствовала себя уже почти совсем здоровой. Вот только голова кружилась, то ли от слабости, то ли от пьянящего воздуха, то ли от каких-то радостных предчувствий. В этот момент Зойка совершенно забыла о том, что уже восемь месяцев идёт война и что надежды на радости сейчас очень хрупкие. Ей хотелось думать только о хорошем и улыбаться, улыбаться… Болезнь словно выпустила наружу вторую половину её натуры, которая до этого скрывалась так глубоко, что Зойка и сама не подозревала о ней, и теперь с весёлым удивлением ощущала трепетные переливы нежности и чего-то ещё, что заполняло её желанием обнять весь мир.
На соседнем крыльце стукнула дверь. Зойка, продолжая улыбаться, повернула голову, но тут же в смущении отвернулась: на верхней ступеньке стоял недавний знакомый, лейтенант, стоял в одной гимнастёрке, на которой поблескивали две медали, и доставал папиросу из коробки с надписью «Казбек».
В какое-то мгновение их взгляды встретились, но Зойке показалось, что лейтенант её не узнал. Она подумала, не вернуться ли в дом, но так не хотелось уходить со двора. Выпросилась у матери всего-то минут на пятнадцать, а прошло не больше пяти. Жалко уходить. Не узнал он её и пусть себе стоит на своём крылечке. А если и узнал, так что такого? Чувство неприязни, вины и ещё чего-то, ей самой непонятного, возникшее на новогоднем вечере, давно прошло. И всё же осталась какая-то неловкость, которая сковывала её в присутствии лейтенанта.
Дверь на Степанидином крыльце снова хлопнула. Это счастливая Тонька вышла, чтобы громогласно объявить права на мужа.
— Коль, ну ты чего? — радостно спросила она.
— Курю вот, — сдержанно отозвался лейтенант.
— Ой, какой ты у меня жаркий! В одной гимнастёрке. Остынешь ведь. Заболе-е-ешь.
— Меня простуда не берёт.
— Ты мне смотри! — радостно пригрозила Тонька и тут только сделала вид, что заметила Зойку.
— Живая, Зой? А говорили, чуть не померла.
Зойка смущённо улыбнулась: дескать, наделала всем хлопот, а вот живая. Обернувшись к Тоньке, она мельком взглянула на лейтенанта — он смотрел в пространство, куда-то мимо неё. Нет, не узнал. Вот и хорошо.
— Коль, ну простынешь ведь!
— Ты сама не простудись. Иди, иди в дом. Я сейчас.
— Ну, ты скорей, Коль. Я твою любимую поставлю — «Брызги шампанского»!
Тонька исчезла за дверью. Лейтенант сошёл с крыльца, остановился в нескольких шагах от Зойки и, так же глядя куда-то поверх её головы, спросил:
— Осуждаешь?
Зойка несмело подняла на него глаза и, совершенно растерянная, молчала: значит, всё-таки узнал!
— Эх ты, пичуга, — продолжал лейтенант, но на этот раз в его голосе не было злости. — Жизнь штука сложная. Тебе этого ещё не понять.
— Ну почему же? — осторожно возразила Зойка. — Я понимаю.
— Что ты понимаешь? — устало и горько сказал лейтенант, и Зойка опять удивилась, как резко меняется его настроение. — Ничего ты не понимаешь. Вот щёлкнет тебя жизнь по носу, тогда поймёшь.
Зойка хотела возразить снова, но, уловив в голосе лейтенанта затаённую горечь, удержалась, промолчала.
— Ты ещё ничего в жизни не видела, а я уже одной войны вот так нахлебался! — лейтенант резанул ладонью по горлу. — Станцию Сосновичи в Белоруссии знаешь? Да откуда тебе знать? У нас там недалеко военный городок стоял. Я, понимаешь, в сороковом женился, а в мае сорок первого у нас пацан родился…Катя, жена…
Лейтенант как-то неловко поперхнулся и умолк, затягиваясь дымом «Казбека». Зойка, поражённая его рассказом, молчала. Она чувствовала, что последует недоброе продолжение. Иначе зачем человеку вторая жена, если одна уже есть, да к тому же с ребёнком?
— Катя, тоненькая такая, бледненькая, аж светится вся, — справился с собой лейтенант. — Смотрю: не выдюжит она, помощь ей нужна. А я-то какой помощник? Всё на учениях, на службе. Ну и вызвал мать с отцом из деревни. Они там дом продали, приехали. А что? Квартира у нас просторная была, две комнаты, всем места хватило. Тут бы жи-и-ить! Да вот — война.
Лейтенант опять умолк, терзая губами папиросу. Зойка боялась пошевелиться, угадывая, что вот сейчас-то и начнётся самое страшное.
— Вой-на-а, — раздельно и задумчиво повторил лейтенант. — В июле немец к нашему городку подкатил. Быстро шел, гад! Наша часть к бою готовилась, а семьи — к эвакуации. Я побежал машину доставать, чтобы своих до станции подбросить. Ведь дитё малое, жена больная, слабая. Да и старики не в лучшем виде. Ну, побежал. Достал! А тут налёт! Шофёр говорит: не проедем. Я ему: езжай! В общем, проехали!
Лейтенант долго молчал, глядя на зажатый пальцами окурок, только губы его судорожно сжимались и разжимались. Зойка ещё не слышала продолжения, но в её глазах уже стоял ужас, словно она сама сумела заглянуть в тот страшный день.
— Приехали…Ничего понять не могу. Не найду дома своего, и всё тут. Полчаса назад стоял, а теперь нету! Еле сообразил, что вот эти развалины…и есть мой дом. Вернее, шофёр уже подсказал. Ну, и все, кто в доме был, все четверо… И дитё малое…тоже… Вот так-то, пичуга.
Вконец искрошенный окурок полетел в подтаявший снег. Лейтенант так стиснул челюсти, что едва разомкнул их потом, чтобы продолжить разговор.
— И вот я тебя спрашиваю: зачем человек на свет рождается? Не знаешь? Молчишь. А я знаю. Чтобы другим жизнь давать, вот зачем. Продолжение рода — это ж не нами придумано. Это ж закон, понимаешь. Закон жизни! Не должна она исчезнуть с земли, жизнь! А я, как остался один… В общем, не помню, как в часть вернулся, как в бой пошёл. Ничего не помню. Помню только, что смерти искал. Лез поперёд всех, ничего не разбирая, а пуля меня не брала. Уж только под осень, во время затишья, когда и не ожидал, мина недалеко от меня как ахнет! Ну, вот ранило. К вам в город попал.
Воробьи совсем обнаглели, подняли на сирени такую оголтелую свару, что лейтенант не выдержал, шуганул их.
— Так вот, лежал в госпитале и думал: раз судьба не дала помереть, надо жениться как можно скорее. Чтобы, понимаешь, исполнить закон жизни. Чтобы остался после меня на земле кто-то. А то на фронте мало ли чего… И чтобы, понимаешь, дом у меня был. Вот кончится война да уцелею я, куда мне возвращаться? А теперь, значит, адрес есть. Может, сын родится, пусть растет, а?
— Пусть растет, — тихо согласилась Зойка, едва шевеля губами от глубокой жалости к этому лейтенанту, который уже не казался ей таким странным.
Она боялась и стыдилась сказать что-нибудь ещё. Слова сочувствия казались ей сейчас нелепыми, неуместными, пустыми. Разве могут они поддержать человека в таком горе? Может, и родит ему Тонька другого сына, а эта боль останется навсегда, на всю жизнь, как отметина от оспы. И будет время от времени всплывать в сердце крутой волной, как сегодня.
— Ладно, пичуга, заговорил тебя совсем. Ты уж прости. Долго на душе копилось.
— Это ничего, — пролепетала Зойка.
— Может, не увидимся больше. Так что прощай. А выживу — ещё соседями станем.
Из двери снова выглянула Тонька:
— Ко-о-оль! Ну, ты совсем запропал!
— Иду, иду! — крикнул лейтенант и поспешил в дом.
Три дня Зойку не покидали раздумья. Исповедь лейтенанта сильно растревожила её. Ну, пойдет она отрывать билеты в театре — разве это то дело, которое ей сейчас нужно? Она видела через окно, как уходил на фронт лейтенант. Тонька, всхлипывая, висела у него на плече, Степанида, громко переговариваясь с соседками, шла с другого бока, а следом за ними мелкими шажочками семенил дед Макар. Сам лейтенант шагал крупно и твёрдо, глядя перед собой. На его суровом лице чётко проступали острые желваки. О чём он думал в этот момент? О том, что покидает вновь обретённый дом (кто знает, на время или навсегда?), или вспоминал тот, первый, что лежит в руинах на белорусской земле?