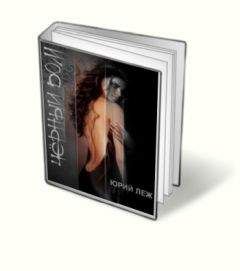Юлишка, по молодости лет, не сильно опечалилась. Наоборот, облегченно вздохнула: один жупан крепко на нее засматривался сальными глазами.
Юлишка вежливо попросила синие жупаны передать Фердинанду Паревскому, когда он вернется с фронта, что она, Юлишка, — немного смущенно добавила: Юлишка Паревская — интуитивно почувствовав, что брачного свидетельства никто не потребует, — теперь будет снимать угол там-то и там-то. Те пообещали, со смешком, с подковыркой. Не колеблясь, она назвала адрес: Большая Васильковская, 50, уверенная, что уж Зубрицкого-то не посмеют ни при какой власти выгнать на улицу.
Через несколько дней Юлишка нанялась на Рейтерскую к ласковому историку Африкану Павловичу Кулябке, тогда еще господину средних лет в потертом вицмундире среднего достоинства.
События, которые произошли в городе с тех пор, ее не коснулись особенно, как, впрочем, и сотен тысяч других жителей.
Со временем историк спрятал в сундук вицмундир, купленный некогда в провинциальном отделении берлинской фирмы «Вильгельм и Симплициус Гельфрейхи», припорошил его нафталином и натянул на себя сюртук, перешитый из старого летнего пальто знаменитым портным Абрамом Кацнельсоном; затем сюртук он сменил на пиджак, скроенный тем же Кацнельсоном, но сшитый в швейной артели имени Суворова мастерицей на все руки Годоваловой; пиджак же через пару лет вытеснила косоворотка, а косоворотку — «вышивана сорочка». Под конец жизни Кулябко снова вернулся к сюртуку. Человек он был легкий, простой. Одинаково хорошо он говорил и по-русски, и по-украински, и по-польски. Все зависело от требований современного момента, от власти в городе, а в дальнейшем — от преобладания того или иного течения в наробразовской среде. Он утверждал, опираясь на свой опыт историка, что жизнь идет как надо, как должна идти, своим чередом. «Своим чередом, своим чередом», — любил повторять Кулябко. С поцелуями он не лез, наслаждений не требовал, и Юлишка жила за ним, как за каменной стеной: ничего не видя и не слыша, ничего не зная и ни о чем, в сущности, не печалясь. Простая душа!
Годы ее не покидала уверенность, что Фердинанд, муж, — так она упрямо называла его про себя, — конечно, вернется, освободит их бонбоньерку, теперь коммунальную, и все пойдет славно, по-прежнему. Она ухаживала за мудрым и старым, как сова, историком с Рейтерской и ждала, ждала, ждала, не заметив, как ей самой далеко перевалило за пятьдесят. Перед переселением в лучший мир Африкан Павлович Кулябко успел позаботиться о своей экономке и настоятельно порекомендовал ее Сусанне Георгиевне…
В груди у Юлишки потеплело от мысли, что люди к ней, несмотря на ее незадачливую судьбу, относились прекрасно и заботились о ее благополучии. А чем отплатила она им?
— Удивительно, — сказала Юлишка, прервав исповедь так же внезапно, как и начала ее, — удивительно, что я тебе, Ядзенька, никогда не говорила о Фердинанде.
— Ничего нет удивительного, — ответила та, — ты ужасно скрытная, и бог ведает, чего у тебя на уме.
Юлишка засмеялась. Да, она скрытная, выдержанная и упрямая. Ей приятна была Ядзина характеристика.
Юлишка несколько раз тряхнула головой — своим умом, — чтобы удостовериться — не возвратилась ли боль. Но боль, к счастью, не возвратилась.
Ну, просто замечательно! И оккупантов в квартиру она не пустила, и чудный воздух вливается через форточку, звеня хрустальными подвесками.
Веки Юлишки отяжелели. Она не смогла с ними справиться.
Мелкие трепещущие волны засеребрились под голубым небом, как рыбы чешуей в квадратных сачках. Плавная волна лизнула пальцы. В лицо ударил тугой, отдающий водорослями ветер. Он подхватил ее выбеленные солнцем волосы, вытянул их и распластал над желтым песком.
— Я сплю, Ядзенька, — вымолвила Юлишка, точно как в детстве говаривала матери, но на ином, забытом языке: «Я сплю, мамуся».
Поздним утром их потревожил звонок. Он не был дерзким или повелительным. Так звонит и подруга с какой-нибудь пустяковой просьбой, и почтальон. Деловито — пи-пи-пи. Жильцы, те нервные, торопятся, вгоняют кнопку глубоко, им кажется — скорее будет.
Ядзя вскочила с постели и, на ходу накидывая капот, бросилась отворять. Она даже не спросила, по обыкновению: кто, кто там? Сразу смекнула — немцы.
В створе дверей Юлишка увидела серую набриолиненную голову кругленького солдата.
А, навозный жук, где твоя железная каска?
Доброе утро!
Навозный жук что-то выяснял на пальцах у Ядзи, но что — Юлишка не разобрала. Ядзя засуетилась, стараясь поживее вдеть ноги в черные галоши на алой подкладке, яликами причаленные к порогу. Держалась она перед солдатом скособочась, в заискивающей позе.
— Минутку, одну только минутку, — угодливо тараторила Ядзя, — тут недалеко, на бульваре. Момент маль, битте, герр официр! — она с превеликим трудом выловила из недр памяти пять слов, употреблявшихся в прошлую оккупацию.
— Что — на бульваре? — прошептала Юлишка и зажмурилась.
Не исчезнет ли навозный жук сам по себе?
Дверь хмыкнула, и Юлишка погрузилась в одиночество. Рэдда, не вылезая из кладовки, заскулила. Помедлив, Юлишка поднялась и подкралась на цыпочках к занавеске. Что нового на дворе?
Иоахим, Готфрид и Конрад вскрывали фанерные ящики. Солдаты носили не железные каски, а лихие пилотки — шапочки, очень похожие на детские испанки, но без кисточек. Юлишке солдаты понравились. Физиономии открытые, незлые. Выйти к ним, что ли? И Рэдду вывести прогуляться.
Юлишка попыталась угадать, что они вытаскивали из ящиков, но ей это не удалось. Желтоватая стружка круто вздымалась волнами. Вскинув глаза, Юлишка с удивлением отметила, что многие окна в доме распахнуты настежь. Она перебросила взгляд на свой балкон. На нем она проводила значительную часть дня, выбивала ковры, вытряхивала одежду, развешивала белье или просто отдыхала, переговариваясь с бабушкой Марусенькой.
На балконе неуклюже ворочался навозный жук.
Опять этот вездесущий квартирьер — навозный жук, навозный жук!
«Как он туда попал?» — подумала Юлишка почему-то спокойно.
Перегнув тело через перила, навозный жук кричал своим товарищам:
— Ай-блай-бах-трах-пум!
Иоахим, Готфрид и Конрад сперва не обратили на него внимания, и только угрожающий взмах ладони подействовал. Они принялись оттягивать ящики поближе к фасаду флигеля, к забору Лечсанупра.
Юлишка пристально следила за ними. Она пропустила тот момент, когда на балкон, пятясь, снова вылез навозный жук. Он выволакивал, усердствуя задом, плоский высокий шкаф, который раньше покоился в углу кабинета Александра Игнатьевича. Шкаф был старинный, резной. Хранились в нем книги по искусству. Юлишка недоумевающе смотрела на навозного жука и недотепу, которые поднимали шкаф за растопыренные ножки, и думала: экие они неловкие! Так и красное дерево недолго попортить. Она хотела взобраться на калорифер, распахнуть форточку и попросить их, как бывало грузчиков, чтобы поосторожнее с мебелью. Не за ворованные куплено — за заработанные тяжелым трудом. Но тут ее пробуравила дикая мысль. Зачем, собственно, они выволакивают шкаф на балкон и как они вообще попали в кабинет, если ключи от английского замка позвякивали у нее, у Юлишки, в кармане? Ее обдало мертвящим холодом, и последняя, виноватая — утренняя — теплота отделилась от тела и растаяла.
— Что вы творите? — захлебнулась ужасом Юлишка.
Именно — творите! — крикнула она.
Голос бессильно отпрянул от стекла, от стен горохового цвета и угас.
Навозный жук и недотепа, толкаясь, перевалили наконец шкаф через перила, и он, кувыркнувшись в воздухе, страшно рассыпающейся грудой смачно хлопнулся об асфальт.
Юлишка остолбенела.
А навозный жук скрылся в кухне.
Юлишка, продолжая ужасаться, предположила, что сейчас на балкон выволокут и тахту, и стол, и сервант, и трюмо, и кресла, и «Бехштейн», но минута капала за минутой, а немцы больше не появлялись.
Сердце Юлишки разжалось.
Но шкаф, шкаф! Красное дерево! Книги!
Они безмолвно лежали на асфальте. Побелевшие обломки торчали в разные стороны.
Юлишка села на пол и закрыла лицо ладонями; потом она вскинулась и решила выйти во двор — сказать им, что… Не испытанный ранее страх размягчил мускулы и одновременно сковал движения. Они стали замедленными, словно Юлишку опустили под воду.
Она отчетливо представила себе шкаф на щербатом асфальте, изуродованный, с выбитыми стеклами, — ослепленный, — и рытую борозду, пересекавшую сабельным ударом причудливые наплывы хорошо отполированного дерева. Но зато вокруг в полном порядке пасьянсом «могила Наполеона» лежали одинаковые толстые фолианты, величиной с мутеровскую «Историю искусств».