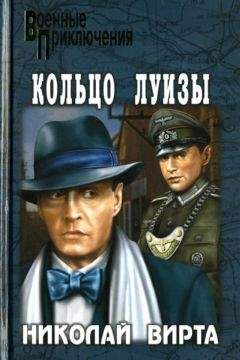Клеменс назвал свою фамилию.
Шлюстер сказал, что он чрезвычайно польщен знакомством. Кто же в Берлине не знает знаменитой фирмы, клиенты которой, как он слышал, влиятельные господа из высшего света.
Клеменс ответил легким пожатием плеч. Воспитанная долгими годами сдержанность сковывала его язык, что не мешало, однако, ему вести себя естественно и непринужденно. Он был не прочь поговорить в пути с тем, кто попадал в его компанию. Каждый человек по-своему интересен. Для Клеменса — вдвойне.
Шлюстер был словоохотлив. Сначала Клеменс отмалчивался, но ведь известна черта говорливого человека: чем упрямее в своем молчании собеседник, тем пуще охота расшевелить его.
Шлюстер спросил, не хочет ли господин Клеменс пива. Клеменс ответил, что хотя он не слишком расположен к пиву, но от кружки баварского не откажется. Появился кельнер поездного ресторана, и вот весь стол у окна заставлен пивными кружками.
Чем усерднее опорожнял их Шлюстер, тем больше говорил. Он рассказал, что все его предки — железнодорожные машинисты с тех самых пор, когда в Германии положили первые рельсы. Однако отец Шлюстера решил, что сын, будь он образованным человеком, может подняться высоко по лестнице служебной иерархии.
Иоганн окончил высшую школу с отличным дипломом и, перебираясь со ступеньки на ступеньку, достиг наконец того положения, которое занимал теперь.
Беседу Клеменса и Шлюстера прервал легкий стук в дверь. В купе вошел человек в униформе служащих Министерства путей сообщения; униформа сидела на нем несколько мешковато, да и сам вошедший производил впечатление эдакого молодого увальня, с лицом румяным и благодушным, с доброй улыбкой на широких губах.
— Мой коллега и друг Август Видеман, — представил Шлюстер вошедшего. — Третий год работает у нас в отделе и уже успел быстро пойти в гору.
Видеман подал Клеменсу руку и обменялся с ним взглядом, не замеченным Шлюстером.
— Да ну, что там, — застенчиво проронил Видеман. — Вечно ты, Иоганн…
Шлюстер не дал ему договорить:
— Ну, ну, Август, не надо скромничать сверх меры! Дорогой Клеменс, наш Август покорил начальство. Он часто в разъездах по делам службы и, куда бы его ни посылали, везде и всюду преуспевает в делах. Я думаю, что в Швейцарии, куда мы едем вместе, Август обведет вокруг пальца почтенных тамошних железнодорожников. Моя жена боготворит Августа, а она дама очень разборчивая.
— Значит, вы потомственный железнодорожник? — осведомился у Шлюстера Клеменс.
— Да вот так случилось. И женился на дочери железнодорожника.
— Ваше потомство, должно быть, тоже пойдет по пути своих прародителей? — улыбнулся Клеменс.
Шлюстер помрачнел.
— Увы! Мой Ганс, он единственный у нас с Эммой, выбрал другой путь. И это горько мне, отцу.
— Кто же он по профессии?
— Он наци, господин Клеменс.
— Послушайте, — вполголоса заговорил Клеменс, — если вы хотите за такие слова попасть в концлагерь — это ваше личное дело. Господин Видеман и я не имеем ни малейшего желания разделить вашу участь. Вы не у себя дома, а в международном вагоне. Не забывайте об этом.
— Не беспокойтесь, господин Клеменс. Проводников этого вагона я знал вот такими мальчуганами. Они и их отцы — честнейшие люди. И эти ребята — добрые и честные люди, не в пример моему Гансу. — Он грохнул кружкой по столу. — Простите, господин Клеменс, вы богач, вы, вероятно, живете, не зная серьезных огорчений, какие выпали мне. Быть может, у вас семья, откуда я знаю, добрые, послушные дети, может, ваш сын станет вашим наследником… А у меня в семье с некоторых пор все плохо, ужасно плохо… И ведь я в свое время палил из винтовки, стоя рядом с Тельманом на одной из гамбургских баррикад.
— Вы коммунист? — с безразличным видом спросил Клеменс.
— Э, нет! Я — вне партии. Это я еще одиннадцать лет назад сказал Тельману.
Печаль, так резко прозвучавшая в словах Шлюстера, тронула Клеменса. В ту минуту он поверил в искренность этого странного человека, участника известного восстания. («Не силой же тащили его на баррикады!» — подумалось Клеменсу.)
— Да, у меня очень хороший и преданный сын, — сказал Клеменс.
— Вот видите, вот видите! — с жаром подхватил Шлюстер. — А я несчастен.
— Ну, ну, зачем же так! — остановил его Видеман.
— Молчи, молчи, Август! —распалился Шлюстер. — Ты знаешь, как я любил Ганса. Да что любил! Я обожал его. Он подавал надежды. В раннем возрасте я заметил в нем склонность к технике. Я не рассердился, когда он до последнего винтика разобрал телефон и, можете себе представить, вновь собрал его! Где бы я ни был, в какие бы дальние командировки меня ни посылали, я стремглав летел домой ко дню рождения Ганса. Мы с Эммой тратили уйму денег на механические игрушки. Пусть, пусть, говорил я Эмме, ломает, собирает, вдруг это и есть его призвание. Он рос таким послушным, мой белокурый голубоглазый паренек, вылитый портрет Эммы, чистокровный, ха-ха, нордический человек, каким нацисты хотят представить всему миру немца, полноценный носитель самой чистой крови! Да пусть она свернется в жилах Ганса!…
— Что я слышу! — с негодованием вскричал Клеменс. — Так говорить о любимом сыне?! Опомнитесь!
— Был, был любимым! —сморщившись, словно комок подступил к горлу, прохрипел Шлюстер. — Теперь он не мой. Боже, как я переживал, когда Ганс вступил в этот ублюдочный гитлерюгенд! Но мать… Эта женщина!… Она помешалась на фюрере. Она слушает его речи и вопит от восторга! Она молится на него, как на бога, на этого проходимца с пошлейшими усиками, на этого авантюриста…
— Одну минуту.
Клеменс выглянул в коридор. Пассажиры спали. Проводники уединились у себя. Поезд шел в кромешной тьме летней ночи. Пробегали фонари станций, потом снова мрак и искры паровоза, рассыпающиеся и гаснущие мгновенно. Клеменс вернулся в купе. Видеман читал газету.
— Однако вижу, вы очень осторожный человек, — усмехнулся Шлюстер.
— Ну, вы ведь знаете, в какое время мы живем.
Шлюстер отхлебнул пива и разразился потоком слов. Он предрекал Германии все мыслимые и немыслимые беды, на память называл цифры, свидетельствующие о катастрофическом падении производства. Упомянул, что уж кто-кто, а они, железнодорожники, лучше всех видят, когда беда, словно гадюка, вползает в страну. Объем перевозок из соседних стран сокращается. А что это значит?… Это значит, что по сравнению с двадцать восьмым годом внешняя торговля на самом низком уровне. То же самое и в промышленности, и у крестьян.
— А нацисты видят выход только в войне, только в том, чтобы ограбить побежденные страны. Господа, война на носу. Если Гитлеру не свернут шею, он свернет ее всей западной демократии, он пойдет и на Россию, хотя всякий раз немцы возвращались оттуда побитыми. Да, бог мой, разве вы не читали «Майн кампф»? Эта людоедская книга лежит у Эммы на туалетном столике рядом с Библией. Ну, разве это не кощунство? Она читает ее про себя, читает приятельницам, она вдалбливала кровавые бредни фюрера в голову моего Ганса, а я, занятый по горло делами, только тогда узнал, чем набиты мозги этого парня, когда он сказал, что вступил в гитлерюгенд!
— Ну, зачем же так расстраиваться, Иоганн! — мягко заметил Видеман, когда Шлюстер окончил яростную тираду. — Все в порядке вещей. Фюрер — человек хладнокровный, хотя иным и кажется истериком. Мы знаем, как он пришел к власти. Долго, с дьявольским терпением ждал он своего часа. Он должен был чем-то привлечь немцев и сделать их своими сторонниками до конца. Я читал «Майн кампф». Не такая уж глупая книга. Она рассчитана и на обывателя с его, извините, самодовольством; и на тех, кто всерьез считает, что мы — избранная нация; на крестьян, которых фюрер называет сельской аристократией; на промышленников, творящих подчас экономические чудеса; и на военных, наконец. А ведь военные для того и существуют, чтобы готовить народ к войне и воевать. Ты сам сказал: кризис. Конечно, есть много путей для восстановления немецкого хозяйства, но фюрер видит кардинальный выход в войне. Ты не согласен с ним. Не согласны и другие. Отлично! Но у власти теперь он, и пойди поспорь с ним! Ведь за него те, кто вроде Эммы, ссылаюсь на твои же слава, в восторге от истин, которые изрекает фюрер. В том числе и Ганс. Что ждало Ганса, когда он покинул школу? Допустим, ты мог бы устроить его в высшее учебное заведение…
— Устроил, — хмуро отозвался Шлюстер. — Устроил на свою голову.
— …но для многих это мечта. А что молодежь видела вокруг? Нужда, разорение, политическая свистопляска. Безрадостная, знаете, картина для молодого поколения. Надо же им было чем-то наполнить жизнь, отдать чему-то избыток энергии, забыть беспросветность существования, почувствовать себя творцами будущего. Ну, хорошо. Многие, да, многие шли за коммунистами и социал-демократами, но огромная масса поверила фюреру. Ведь он много лет без устали твердил, что именно молодые немцы должны стать наследниками великой Третьей империи, носителями будущего великой немецкой нации, хозяевами мира. Когда Ганс слышал это в школе, дома в разговорах с матерью, этот парень, лишенный жизненного опыта и критического взгляда на происходящее, поддался массовому… скажем, психозу и пошел в гитлерюгенд. Все понятно, Иоганн, все понятно, и это я говорил ему, господин Клеменс, не раз.