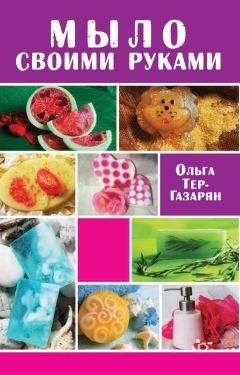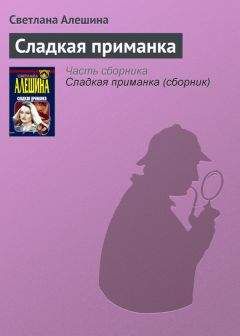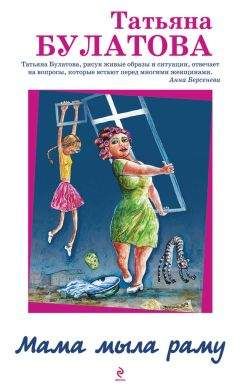«…Гитлера угнетала уже сама мысль о том, что придется выстоять еще одну зиму. Он сместил фон Бока и разжаловал начальника генштаба Гальдера за его предложение отступить на одном из участков. Гитлер заявил: «От командования я требую такой же твердости, как и от войск на фронте». Гальдер возразил: «У меня эта твердость есть, мой фюрер, но ведь на фронте гибнут наши храбрые солдаты». Гитлер ответил: «Генерал-полковник Гальдер, каким тоном вы позволяете себе разговаривать со мной?..»
Александр Клюге, «Описание одной битвы»
Перевод с немецкого«…Русская зима связана с продолжительными жестокими холодами (от 40 °C до 50 °C), часто перемежающимися оттепелью, снегопадами, буранами, туманом и плохой видимостью…»
Приложение № 2 к «Уставу сухопутных войск» германской армий
Перевод с немецкого«…Зима в России — это ужасно! Говорят, что к ней привыкают со временем, но, поверь, я привыкнуть никак не могу. Боюсь, что эта третья русская зима будет для твоего Отто последней…»
Из письма домой Отто Ильгена, солдата 3-й батареи. 87-й пехотной дивизии
Перевод с немецкого«…А зима у нас сейчас, Елена Николаевна, установилась хорошая, настоящая, не то что прежде — дожди и слякоть. Температура 18–20°, а по ночам и чуть больше, и снега много вокруг, и все очень красиво. Здесь, на фронте, особо эту красоту чувствуешь. Хоть и трудно, и опасно, и работы, конечно, очень много, а красоту ни с чем не сравнишь. Поглядишь на лес — заснеженный, вроде бы и неживой совсем, с березками и осинками, дубками и елочками, — а сердце радуется. Поглядишь на поля и реки, покрытые льдом, — и опять радуешься. А вообще-то настроение хорошее…
Если вернусь благополучно, обязательно навещу вас.
Ну, а так — не отчаивайтесь. Того, что случилось, не изменишь, и, может быть, это плохо, но я вот все со времени получения письма вашего думаю: «Уж лучше бы он, Коля, на фронте погиб…»
Не сердитесь, если что-то не так написала, а затем приветствую вас, пожелания вам, самые добрые шлю и тоже желаю, здоровья. И — до скорой, надеюсь, встречи! До свидания!
Тася». 10
К началу января сорок четвертого зима пришла настоящая. Снегу поднавалило в меру. Теперь уже и по лесу так, как прежде, запросто не пройдешь, и землянки по утрам приходится откапывать, и машины, и все большое, сложное, тяжелое хозяйство фронтовой прачечной. А оно без конца передвигалось с места на место, и Тасе вместе со своими подчиненными все время приходилось устраиваться заново, а главное — принимать грязное и взамен выдавать чистое белье.
Немцы всегда боялись зимы, но сейчас они, кажется, немного привыкли к ней. Больше они боялись другого — повторения Сталинграда, Курской дуги, Киева. И потому, без конца выравнивали фронт, огрызались порой, а чаще уходили без боя, и нашим приходилось идти по их пятам.
Видно, у каждого дела человеческого есть своя особенность. Казалось бы, радоваться Тасе бесконечным передвижениям на запад, а она огорчалась. Передвижения мешали работе, и она сама, и девочки ее психовали, как это умеют только женщины, когда они одни…
Тася с трудом справлялась с ними и с самой собой. От нее требовалось невыполнимое — чистое белье. И еще отношение к ним, как к чему-то второстепенному: отремонтировать машину нужно — последняя очередь, горючее, — последняя очередь, наконец, размещение — опять в последнюю очередь.
— Тут к тебе! Приехали! — сказала ей Вика с какой-то долей ехидства. — А ты ходишь!
— Ну что! И хожу: белье командиру дивизии отнесла и начштаба — тоже. И что! Вы, что ль, пойдете!.. Скажи лучше, кто там приехал.
— Не знаю кто! Майор по званию, — произнесла Вика. — Ох, и везет же тебе, Таська! Кажись, особист…
— Брось! — сказала Тася.
И не удивилась. Девочки злые, ехидные, от них любого можно ждать. И так острят, что к ней начальство неравнодушно. Даже когда орден ее обмывали, острили. И понятно, хотя и обидно, а как не понять: работа адова, устают все чертовски, а тут еще — женщины. По двадцать — двадцать пять каждой. Руки разъедены, в мозолях и волдырях. Бесконечные стирки и сушки — фигуры наперекось пошли. Еще два-три года таких, и смотреть будет не на что.
Сама Тася заметно располнела в последнее время, но главного никто из девочек не замечал. И она, хотя и не раз порывалась сказать девчонкам об этом, главном, молчала. И, наверно, правильно молчала. И так без конца суды-пересуды, а тут совсем замучают расспросами и разговорами!..
— Кто? — спросила Тася, заранее простив Вике и тон ее, и все.
— Особист какой-то, майор… Смотри, Таська!
— Ну брось, брось! Не болтай!
Возле их прачечной стоял помятый, непонятной окраски трофейный «мерседес». И рядом с ним ходили двое, водитель в телогрейке и майор в светлом полушубке.
Особист! Но почему же особист! Особого отдела они не обслуживали, так что вроде ругать ее не за что. А что еще может быть связано у нее с особым отделом?
Майор сказал:
— Мне приказано проводить вас к генералу Кучину.
Они ехали долго. По разбитым промерзшим дорогам и лесам. Буксовали в полях и дважды пересекали речные переправы. Майор был словоохотлив и любезен, не позволял Тасе подталкивать машину и даже обрезал шофера, когда тот чуть не выругался:
— Как тебе не совестно, Трофим Ефимыч! С женщиной едем, а ты…
— Оговорился, — пробурчал шофер. — Прошу прощения…
После очередной переправы над дорогой повис туман. Белое молоко не разбивалось о ветровое стекло, не прорезывалось светом синих фар. Какими-то странными клочками туман захватывал вершины и стволы деревьев, часть дороги и ложбинки, полз по речному льду и по крышам одиноких домов.
Шофер выскакивал из машины, ругался, просил пощады. Майор успокаивал шофера, занимал Тасю и без конца смотрел на часы. И наконец, когда они вновь остановились около березовой рощи, майор не выдержал:
— Пожалуй, Трофим Ефимыч, мы тут и пешочком доберемся. Не возражаете? — спросил он у Таси.
Они шли в сплошном тумане среди стволов берез. Снег, березы и туман — все было бело. Даже свет фонарика у майора был таким же белым.
— Сказка, правда? — спросил майор. — Почему-то «Снегурочка» Островского вспоминается. Поразительно, как давно я не был в Москве! А ведь когда там, не успеваешь ни в театр, ни на выставку, ни в кино. В лучшем случае в цирк с ребятами…
В кабинете генерала Кучина, когда они наконец пришли на место, работало радио.
— Нет в Маньчжурии более ненавистного народу человека, чем продавшийся японцам Пу-И, назначенный ими «императором» марионеточного государства Маньчжоу-Го. Этот ставленник Японии… — передавало радио, пока генерал не выключил приемник.
— А мы вас уже несколько дней разыскиваем, — сказал Кучин, — но и вы все передислоцировались, и мы… Очень рад, очень рад! — Кажется, генерал заметил: — Если хотите послушать, пожалуйста!
— Нет, что вы, что вы! Просто я давно радио не слушала, — сказала Тася.
— Тогда разрешите к делу…
Ей поручалось перейти линию фронта севернее Озаричей, встретиться в условленном месте с представителем соединения белорусских партизан и согласовать с ним ход дальнейших совместных действий в направлении на Бобруйск и дальше — на Минск.
— Вам, старой подпольщице, карты в руки, — сказал генерал. — Важность задачи понимаете?
— Понимаю…
— И ни тени сомнения?
Сомнение у Таси было. Одно, может, самое важное. «Но кажется, еще рано, — решила она. — И не замечает никто — рано! Успею!»
— Нет, сомнений у меня нет, — сказала она.
— Ну и добро! — согласился генерал Кучин. — Завтра с утра сдавайте свое хозяйство. Мы предупредим кого следует. А потом за вами придет машина. О деталях договоримся с представителем штаба партизанского движения. Как раз завтра он подоспеет сюда…
11
В дневнике боевых действий штаба Н-ского партизанского соединения появилась такая запись:
«4.7.44 г. через связного штаба Белорусского фронта получили данные, которые помогут проведению совместных с частями Советской Армии действий в операциях против группы немецких армий «Центр» и, в частности, против 2-й немецкой армии, в районах Жлобин, Озаричи, Паричи участка железной дороги Бобруйск — Минск. В свою очередь, переданы командованию Советской Армии последние данные о боевых действиях партизанского соединения по уничтожению живой силы и техники противника, участии в «Рельсовой войне».
Генерал Кучин записал в своем фронтовом дневнике, который он вел тайно от всех («Неудобно! Еще заподозрят в сентиментальности или, чего хуже, графоманстве!»):