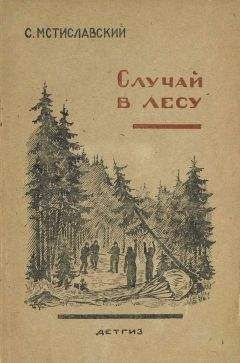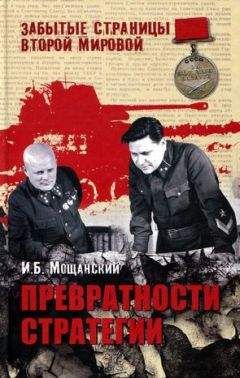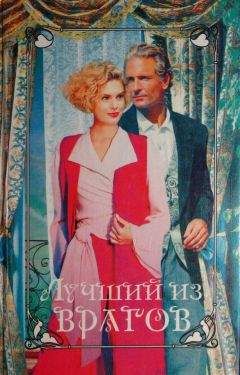Они, соответственно, и жали. Батальону Дежнева в тот день была поставлена задача овладеть Александровкой – небольшим, ничем не примечательным поселком при железнодорожной станции того же названия, давно уже раздолбанной «кукурузниками» и наверняка не представлявшей для немцев особой ценности. Оборона на подступах была обычная, без признаков усиления, и неожиданностей не предвещала.
Единственное, что тревожило комбата, это погода, с самого утра, как назло, снова летная. Последние дни лило как из ведра, облачность оставалась обложной, низкой, и в воздухе было спокойно – ни немцев, ни своих.
На своих, положим, здесь и не рассчитывали: все наличные силы двух воздушных армий действовали севернее, на Киевском направлении, и южнее – на Криворожском.
И предчувствие не обмануло – недаром так гладко все шло с самого начала. Они уже были в Александровке, которую немец по обыкновению успел перед отходом подпалить с одного конца, и прочесывали улицу за улицей, подбираясь к станции; было солнечно и холодно, резкий северо-восточный ветер – он-то и разогнал ненастье – нес удушливый едучий дым, клочья горящей соломы, пепел. Дома были пусты, это тоже выглядело привычным, здесь, на Правобережье, при приближении фронта угонялось на запад все местное население, от старых до малых; приказы покинуть прифронтовую полосу можно было видеть на стенах домов почти в каждом освобожденном местечке. Жители оставались лишь там, откуда немцев вышибали так быстро, что у них не оставалось времени провести все запланированные мероприятия. Но чаще они успевали.
Налет ударил, как всегда, внезапно, хотя нельзя сказать, чтобы неожиданно; опрометью выскочив из хаты, куда только что перебрался батальонный КП, Дежнев едва успел подумать – ну вот, с утра чувствовал! – как его оглушило грохотом и накрыло мгновенной ревущей тенью. Хата вспыхнула сразу, как облитая бензином, – хорошо еще, только с крыши; уже лежа в грязи, он с облегчением увидел, как из окна вместе с обломками рамы вывалился кубарем радист, вроде целый и невредимый, в обнимку со своим «Севером». Командир взвода связи выпрыгнул следом за ним, тем же путем, а начштаба выбежал из двери, на бегу заталкивая за пазуху кое-как свернутую карту.
Головастые «фокке-вульфы» прошли совсем низко, по-над самыми тополями, почти рубя винтами их голые, как метлы, верхушки; тоже научились подкрадываться на малых высотах, бреют не хуже наших ИЛов. Дежнев заорал связистам, указывая на погребок в стороне от хаты, -туда, мол, туда ныряйте! – и почти сразу, едва успели стихнуть вдали моторы истребителей, послышались гулкие удары танковых пушек. Впрочем, тут в его воспоминаниях четкости не было, возможно, и прошло какое-то время – самолеты заходили на штурмовку еще дважды, пожалуй, все-таки танки появились позже. Радист успел наладить свое хозяйство и уже вызывал полк, когда комбат вылез из погребка и увидел, как скособочился и поехал в сторону, разваливаясь, угол соседней хаты, а из-под осевшей крыши выдвинулась осыпанная саманным крошевом и соломой корма одного из приданных батальону двух легких Т-70. Танк крутнулся, довершая разрушение, из люка высунулся чумазый башнер и, увидев подбегающего комбата, стал кричать осипшим голосом, что немец за станцией, жмет вдоль полотна, а сколько – хрен его знает, он видел три «пантеры», может, их там и больше, – и на этом для капитана Дежнева все кончилось, он только успел ощутить, как туго и беззвучно ударило сзади волной обжигающего жара, – и очнулся уже неведомо где, ничего не соображая.
Сообразил позже, начав осознавать окружающее – сперва обонянием и на слух. Он был в помещении, рядом кто-то постанывал, кто-то слабым голосом просил пить, еще один бормотал невнятное, видно, в забытьи; а разило в помещении карболкой и йодоформом, вместе с другими, обычно сопутствующими им запахами неоспоримо госпитального свойства.
Вот те, бабушка, и Юрьев день, подумал он тоскливо, боясь еще пошевелиться и разбередить притаившуюся неведомо где боль, а то и – того хуже – обнаружить в себе какую-нибудь недостачу. Отважившись все-таки, с облегчением убедился, что руки-ноги на месте и даже функционируют, хотя и с трудом. Вот голова стала вдруг болеть невыносимо, но не так, как может болеть рана, а по-другому, по-мирному. Да и не было на голове повязки, это он тоже проверил. Выходит, контузия?
Догадка подтвердилась после разговора со строгой майоршей медслужбы, которая сказала, что хотя случай и легкий (так, по крайней мере, выглядит), но лучше бы все же подлечиться в тылу – эти контузии штука коварная, не всегда можно предсказать последствия.
– Вот еще, – возразил Дежнев, – с такой ерундой в тыл, вы уж меня, доктор, не конфузьте.
– Ну, если ты так хорошо разбираешься в медицине, – майорша, не поддержав шутливого тона, пожала плечами, – настаивать не буду, выпишем, и геройствуй на здоровье.
Тоже мне, дуреха, подумал он неуважительно, когда врач ушла. Простых вещей не соображает! При чем тут геройство? Из тылового госпиталя направят в офицерский резерв, оттуда вообще неизвестно куда попадешь – а ему надо вернуться в свой полк. «Геройствовать» все равно придется до самого Берлина, вопрос – с кем? Здесь он всех знает, его знают, в батальоне порядок, с ротными полное взаимопонимание – притерлись, приработались. А как на новом месте будет? Нет уж, спасибо, от добра добра не ищут...
В начале ноября капитана Дежнева выписали. От сослуживцев, навещавших его в госпитале, он уже знал, что батальон тогда в Александровке трепанули, но не так чтобы очень, могло быть хуже. А вообще дела фронта выглядят не блестяще, немцам удалось восстановить оборону, Кривой Рог все еще в их руках. Танкисты Ротмистрова там, правда, побывали, но лишь наскоком – израсходовали боезапас в уличном бою, а горючего в баках едва хватило, чтобы отойти, снова сдав город противнику. У соседей успехов больше – войска 3-го Украинского освободили Днепропетровск, а под Киевом бои уже на самых подступах. Тем-то будет о чем рапортовать к празднику!
День, когда Дежнев возвращался в полк, был ясный, с крепким уже утренним морозцем. Предъявив на КПП свои документы, он узнал, что машина в нужном ему направлении должна скоро быть, и устроился под навесом, где сидели и покуривали другие, тоже ожидающие попутного транспорта. Знакомых среди них не оказалось, разговоры шли обычные – о вестях из дому, об ожидающихся к праздникам повышениях и наградах, двое лениво спорили о недавно учрежденном ордене Богдана Хмельницкого – будут ли его давать всем или только участникам боев на Украине. КПП был расположен в редкой дубовой роще, такие же дубы – огромные, кряжисто раскинувшие свои могучие, словно из камня вырубленные ветви, – встречались и под Энском, в Казенном лесу – говорили, что когда-то он вообще был сплошь дубовым, чуть ли не Петр его насадил для нужд корабельного строения, оттуда и название. Поздней осенью, когда уже давно облетят и тополя, и березы, исполинские эти дубы долго еще – иной год всю зиму напролет – желтели тусклой, словно ржавчиной подернутой упрямой жесткой листвой. Эти вот тоже не облетают, держатся.
Если и дальше пойдем в том же темпе, подумал он, то, может, к Новому году... Подумал так, как привык думать об этом последние месяцы: спокойно, без прежнего замирания сердца. Непонятно – сам ли очерствел настолько, что уже не способен чувствовать в полную силу, или просто выработался тот инстинкт душевного самосохранения, который не дает фронтовику размягчаться воспоминаниями о другой, мирной жизни. Здесь ведь не только вспоминать нельзя, но нельзя позволять себе даже думать о судьбе близких – иначе конец, не выдержишь, самая крепкая психика сдаст под двойной нагрузкой.
Зимой сорок первого, когда он был под Москвой и со дня на день ждали, что немцы возьмут Тулу, – разве мог он себе позволить думать о матери, о сестре, – что будет с ними, если и они окажутся в оккупации? Нет, тут определенно есть какой-то предохранитель.
Но что война развитию чувствительности не способствует, это тоже верно. Грубеет ли на войне человек, черствеет или закаляется духом, сказать трудно. У всех, наверное, по-разному, а себе диагноза не поставишь. Лестно, конечно, думать, что закалился, хотя на самом деле, может, просто сердце закаменело. Поди разбери!
Наверное, если увидел бы Таню – если суждено им увидеться, – наверное, все прежнее вернулось бы. Ну, возможно, чуть по-другому – но вернулось бы. А пока... Пока и представить себе трудно – настолько все это далеко, настолько не связано с действительностью, настолько уже неправдоподобно.
Его окликнули, Дежнев затоптал окурок, встал, бросил через плечо полупустой вещмешок. Возле ободранной ЗИСовской трехтонки, стоящей у шлагбаума, старшина с повязкой регулировщика проверял бумаги у девушки с погонами сержанта.
– Вот, товарищ гвардии капитан, и попутчица вам нашлась, – сказал он, возвращая девушке документы, – ей туда же.