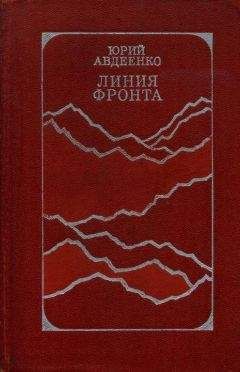— Версию, — глухо произнесла Домна Петровна. И задумалась, словно пыталась постигнуть значение этого слова. Потом посмотрела на меня с вызовом: — О моих внуках вы подумали? Они подадут на вас в суд за клевету на отца.
— Вы уверены, что это клевета?
— Уверена.
— Тогда рассказывайте.
И Домна Петровна стала рассказывать…
Что-то знала она, что-то знал он. Картина сложилась такая…
Владимир Ловиков и Владимир Суроженко были призваны в ряды Красной Армии в один день, в один час… Путь их солдатский тянулся до самой Хадыженской, где Суроженко заболел воспалением легких… Крупозным воспалением, и был отправлен в госпиталь в город Сочи. Там он пролежал без малого пятьдесят дней. После госпиталя уже не попал в свой полк, а был определен вначале в Туапсинскую военную комендатуру. Потом несколько дней нес службу на дороге Майкоп — Туапсе. После чего зачислен в караульную роту, отдельную, местную, стрелковую. 1 ноября, стоя на посту, ночью, возле склада ГСМ, почувствовал недомогание и не понял, уснул или потерял сознание… Очнулся от взрыва, склад горел… Была ли это диверсия, или попадание шального снаряда, а может быть, бомбы, он, конечно, не знал. Факт, что склад горел, а часовой был жив. Суроженко не уловил признаков воздушной тревоги, признаков артналета. И он понял, что совершил воинский проступок, за который, принимая во внимание суровые военные законы, его могут расстрелять. Он был молод и, возможно, не очень умен. (Так пояснила Домна Петровна.) Первое, что пришло ему в голову, — бежать. Нет, нет… Не дезертировать. А бежать в свой родной полк, который, как было известно, сражался с врагом в каких-нибудь двадцати километрах… Он добрался до штаба своего полка. Добрался, наверное, только потому, что солдат, торопившийся на фронт, вызовет меньше вопросов, чем по дороге в тыл. Начштаба майор Кирсанов выругался круто, узнав, что Суроженко сбежал из караульной роты. Суроженко объяснил, что не желает топить печки в комендатуре, а желает драться плечом к плечу со своими боевыми товарищами…
Майор Кирсанов выругался, но оценил полковой патриотизм. Направил Суроженко в первый батальон. Там его без всяких проволочек определили в третью роту. Когда Суроженко попросился у ротного в свой родной второй взвод, ротный даже очень обрадовался…
Они делали завал на дороге. На размытой осенней водой дороге. Валили деревья. Каштаны. На некоторых деревьях еще сохранились грязно-серые шишки. Когда деревья падали, шишки раскрывались. И плоды, темные, блестящие, размером с ноготь и даже с пятак, ложились на грязную дорогу, на вялые листья свежо, гордо.
Взводный крикнул:
— Суроженко! — И добавил: — Пойдешь с ними. С саперами.
Младший лейтенант — сапер был прыщавый. И очень молодой. Зеленый был младший лейтенант — это точно. Нервничал. Или замотало сильно. Сказать трудно. Чуть скривившись, кивнул он, собственно, не кивнул, а дернул головой, словно контуженый. И Суроженко пошел за ним на склад боепитания.
На складе (два бункера и три машины под сеткой — вот и весь склад) младший лейтенант разговаривал с майором, тоже сапером. Выяснилось, взрывчатки нет и раньше завтрашнего утра не будет. Но идти на перевал нужно. Во-первых, «изучить», «наметить», «подготовить», разумеется, тропу для взрыва; во-вторых, проводник, местный житель, свободен только сегодня, а завтра он поведет в немецкие тылы разведку.
Тогда-то Суроженко и увидел проводника-адыгейца. Лицо гордое, без морщинок. А вот сколько лет, не определишь. Может, сорок, может, шестьдесят. Когда же горами пошел проводник, впереди всех, тогда со спины ему можно было дать только восемнадцать.
Провел он их козьей тропой, что выходила к вершине метрах в трехстах правее перевала. Подготовили они место к взрыву. И вот здесь случилось самое страшное. Адыгеец показал им еще одну тайную тропу, которая соединяла козью тропинку с основным перевалом. И они, ступая след в след, прижимаясь к холодным скалам, вышли на перевал. И не просто на перевал, а метров на сорок ниже его пиковой точки, в тыл подразделению, несущему здесь охрану.
Там Суроженко и увидел Володю Ловикова. Брата своего троюродного. Пожали друг другу руки. Закурили махры. Ловиков, видать, голодный был, отощавший. Суроженко вначале хотел ему банку тушенки подарить. Одну из трех, припасенных еще в Сочи, где он лечился в госпитале. Но потом передумал. Не помрет Володька с голоду. Жратвы им, как пить дать, до вечера подбросят. Доброта, конечно, дело благородное. Только тушенка и самому сгодиться может. Черт знает, куда завтра нелегкая забросит.
Видел Суроженко, разговаривал адыгеец с командиром отделения. Тропу тайную показывал. Красноармейца послать на нее советовал…
Вниз шли основной дорогой, перевальной. Долгой она была. Раз в пять длиннее, чем козья тропинка.
Следующим утром, еще и не рассвело, разбудил взводный Суроженко. И велел нести ящик с толом козьей тропой на вершину.
Взводный сказал:
— Саперы вначале будут минировать перевал… Потом придут к тебе. Той боковой тропкой… Жди их.
— Слушаюсь, — сказал Суроженко без всякой охоты.
Рассвет был где-то за горами. Иней почувствовал его первым, забелел, даже немного заискрился, самую малость, словно подышал рядом кто-то добро, бережно. Земля смерзлась. Потрескивала под ботинками. На ручье вдоль берегов рвано извивалась ледяная кромка, шириной с ладонь, а местами уже. Туман над водою пробивался, чуть заметный, молодой…
Суроженко лицом уткнулся в ствол автомата. Немец лежал за камнем, из-под которого торчал куст длинной примороженной травы, похожий на седую бороду. Суроженко схватился за куст не для того, чтобы подтянуться, а скорее для равновесия, потому что тропа на этом участке забирала вверх круто, а вещевой мешок с толом оттягивал спину. Ступив на светлый камень, ребром выпиравший из желтой глины, Суроженко увидел ствол на уровне собственного рта и глаза врага, настороженные, как у охотника.
Он не мог поднять руки вверх, иначе непременно свалился бы с тропинки. Он не двигался… Немец прищурился, словно собираясь выстрелить. Но кто-то рядом на плохом русском сказал:
— Шум не есть надо. — И добавил что-то по-немецки.
Суроженко повернул голову. Слева и выше, метрах в пяти, стоял немец в пятнистом маскхалате. Он улыбнулся Суроженко. И сделал знак рукой: дескать, подходи…
Немцев оказалось четверо. Были они полковыми разведчиками. И, в общем-то, случайно вышли на середину козьей тропы, о существовали которой до появления Суроженко даже не подозревали. Они обыскали его, обнаружили тол. И все поняли. Сказали:
— Веди.
Он повел.
Он не знал, что сейчас вершину в районе козьей тропы охраняет Володя Ловиков. И немцы не знали. Ловиков же, увидев Суроженко, принял немцев за наших разведчиков, переодетых в маскировочные халаты. Он встал во весь рост. И радостно замахал руками. Ловиков, конечно, не понял, за что его убили. Не успел понять. Немец выстрелил из-за спины Суроженко. И Ловиков рухнул в трещину между камнями головой вниз. Застрял. Подковки на его ботинках были новыми-новыми, словно он только сегодня набил их.
Козьей тропы на противоположную сторону Суроженко, естественно, не знал. Ему был известен лишь участок в тридцать — сорок метров, который саперы подготовили к взрыву.
Немцы посовещались. Их лица, жесты говорили за то, что они все-таки опасаются спуска. И, возможно, считают пленного нежелательной помехой.
Подковки на ботинках Володьки Ловикова уже заиндевели.
«И мои тоже заиндевеют быстро», — ярко-ярко подумалось вдруг Суроженко. Немцы обыскали Ловикова, взяли у него красноармейскую книжку. И Суроженко велели отдать свою. И тогда он понял, что лежать ему через минуту рядом с Ловиковым. Подметками кверху. А, может, не кверху. Впрочем, какая разница?
Рванулся он. Прыгнул с горбатого камня в запыленные инеем кусты. Побежал к той тайной тропе. Тропе на перевал. Извилистая она была. Прикрытая скалами. И по ней можно было уйти к нашим. Оторваться от немцев. Если выиграть в рывке пять-шесть секунд…
Немцы могли убить его просто. Но они не сделали этого, потому что оказались бывалыми солдатами, сообразительными и хладнокровными. Пуля сбила с него шапку. Окрик «Хальт!» заставил остановиться. Шапка убегала вниз, выигрывала секунды, прыгая с камня на камень, точно заяц. Немец, наиболее спокойный из четверых, тот самый, что немного говорил по-русски, обошел замершего с поднятыми руками Суроженко, раздвинул кусты. И, всмотревшись в землю, тихо присвистнул. Он увидел следы солдатских сапог. Потом повернулся к пленному. Сказал твердо:
— Ты знайт дорога. Карошо.
Повел стволом автомата, показывая на тропу. Прикрикнул:
— Комм… Шагать! Шагать!
И Суроженко пошел по тропе. Он считал, что тропу возле выхода к дороге на перевал охраняют наши. Увидев своих, он упадет на землю и закричит: «Стреляйте!» Тогда немцы будут уничтожены, потому что на узкой, виляющей над трещинами тропе негде лечь, негде укрыться. А он, Суроженко, окажется не предателем, а даже будто бы героем. И, возможно, ему дадут орден…