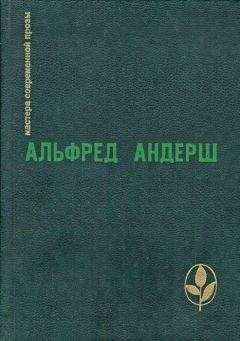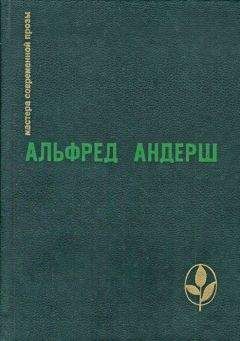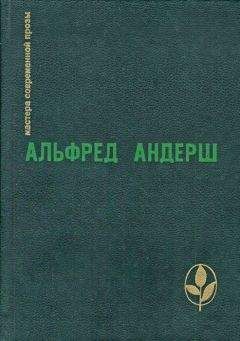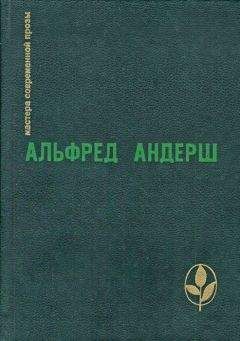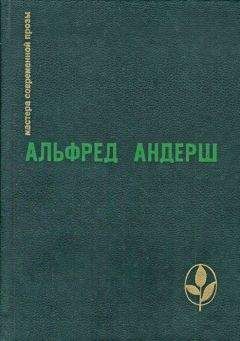Потом:
«Среди всех этих знаков я обнаружил один, которому отказываюсь придавать символический характер. Я имею в виду, конечно же, свастику. У Динклаге она была в трех вариантах: черная по черному в центре обоих его главных орденов — Железного креста I степени и Рыцарского креста, и серебряная, окруженная венком, который держит орел, на левой (для него на правой) стороне груди. В этом виде ее носят все немецкие солдаты — так называемая государственная эмблема. Когда я говорю, что свастика не символ, я имею в виду, что она ничего не обозначает. Она действительно ничего не обозначает. Попытайтесь-ка хоть раз придумать, что могла бы символизировать свастика, и Вы поймете, что я прав. Она даже не символизирует собой те бесчисленные убийства, которые совершались от ее имени, ибо преступления нельзя превращать в символ. Убийство вызывает реальный ужас, и тот, кто, не желая назвать убийство убийством, просто рисует крест с крючками, свастику, тот остается фашистом, даже если его значки выведены тончайшими каллиграфическими линиями или нарисованы тушью на рисовой бумаге.
Если бы это клеймо обладало хоть пряной остротой, юмористической силой старинных тайных воровских знаков! Но еще до того, как упырь решил взять свастику на вооружение, никогда не вымирающая раса школьных советников, тщательно вычертив на миллиметровой бумаге в какой-нибудь мюнхенской комнатушке это геометрическое позорище, уже читала лекции об истории свастики, болтала о санскритском счастье и солнечных колесах!
Разглядывая свастики нашего бедного друга Динклаге — мне вдруг приходит в голову назвать его именно так, — я попытался представить себе, какие последствия имело для него то, что он носит их много лет подряд. Ордена оставим пока в стороне, но государственную эмблему он вынужден носить уже седьмой год. Учитывая все то, что мы теперь о нем знаем, я пришел не столько к духовно-политическому, сколько к банальному медицинскому заключению: в течение семи лет Динклаге ощущает вечный зуд на правой стороне груди. Да, я почти уверен, что были времена, когда он не мог противостоять желанию почесаться. Тогда он расстегивал мундир, задирал рубашку и до крови расчесывал ногтями то место, где обычно сидела государственная эмблема. А теперь представьте себе, мой дорогой господин Хайншток, что тысячи немецких офицеров (о солдатах я не говорю) страдают от такого же зуда! Я понятия не имею, сколько на свете немецких офицеров, но сто или хотя бы пятьдесят тысяч из них наверняка время от времени чешутся как безумные. Конечно, это не спасает их от чесотки. Но они просто не доходят до мысли вырезать раковую клетку. Или у них не хватает мужества. А ведь это было бы так просто. Я имел возможность рассмотреть вблизи государственную эмблему майора Динклаге. Она просто нашита на мундир.
Оглушенный, не способный охватить все это оптическое изобилие — есть фламандские мастера, на картинах которых поначалу не воспринимаешь ничего, кроме драгоценностей и парчи, — я спрашивал себя, свойственны ли этому майору Динклаге какие-либо индивидуальные черты или он — лишь воплощение определенного типа. (Не знаю, дорогой г-н Хайншток, существенно ли для Вас выяснение этого вопроса. Ведь Ваше мировоззрение, как правило, довольствуется выявлением классово-типических черт. В беседах с моими коллегами-марксистами я всегда замечал, что они начинают скучать, когда я заговариваю о нетипичном, индивидуальном в произведениях искусства, об особой душе картины.)»
Будем исходить из того, что письмо это было написано и что Хайншток его получил; тогда мы должны будем представить себе и разговор Хайнштока с самим собой или, точнее, с отсутствующим Шефольдом, разговор, неминуемый из-за этого выпада, представляющего собой, если разобраться, веский аргумент против учения, которому Хайншток следовал. Теоретизировать он бы, вероятно, не стал. «Коммунистическая партия, — слышим мы его голос, — во всяком случае, коммунистическая партия, которую я знал, всегда отдавала себе отчет в том, что люди не одинаковы. Все товарищи были разные, и партия учитывала это. Даже в концлагере, где всех нас хотели превратить просто в номера, мы были настолько неодинаковы, что вы и представить себе не можете. Каждый реагировал на лагерь по-своему». После этого он сделал бы паузу и затем сказал бы: «Конечно, существует классовый враг, и его надо уметь распознать. Но и он очень разный. У него множество оттенков, и это партия тоже учитывает. Вы, г-н доктор Шефольд, вообще не являетесь нашим классовым врагом, хотя вы и бюргер». И уже под конец, почти неслышно Хайншток пробормотал бы: «Пошли они к черту, эти ваши коллеги-марксисты!»
«Может быть, его лицо могло убедить меня в том, что он не просто типичный представитель своей профессии? Но, откровенно говоря, я не нашел в этом лице ничего, кроме выражения энергии. Две тонкие линии морщин идут от носа к уголкам рта, и больше ничего, кроме напряженности и загара — по-видимому, результата строевой службы. Я искал в его лице — разумеется, незаметно, не разглядывая его в упор, — признаки… да, я решаюсь назвать эти слова: признаки способности к страданию… но не нашел. Вы знаете: перенесенные страдания, даже страдания других, вызывают горячее чувство сопереживания, оставляют на лице следы. Несколько раз я замечал, что взгляд его становился отсутствующим; у него серые глаза, и вдруг, в разгаре беседы, притом отнюдь не тогда, когда речь заходила о важных вещах, они делались слепыми, на них словно появлялась катаракта. Но это, собственно, и все. В остальном он вызывает симпатию. Странно, что человек — не важно, как он выглядит, — может казаться симпатичным или несимпатичным. Я не мог определить, почему именно он кажется мне симпатичным, — это, наверно, невозможно. Существует нечто, выходящее за пределы таких понятий, как любезность, хороший тон, сдержанность, способность интеллигентного человека понимать другого. Жаль, что Вам не довелось познакомиться с г-ном майором Динклаге: готов держать пари, он и на Вас произвел бы впечатление человека симпатичного.
Я стараюсь быть как можно объективнее-это необходимо, ибо мне все время казалось, что я как-то невыгодно отличаюсь от него. Представьте себе: с одной стороны — я, располневший, грузный человек, по-своему любящий радости жизни, гурман, занятый, по существу, только восприятием красоты, эстетических процессов, задуманных и реализованных другими, пассивный почитатель женщин; а с другой стороны — он, стойкий солдат, даже на пороге капитуляции остающийся человеком сугубо военным, хваткий фронтовой офицер. Достаточно причин для всякого рода неприязненных чувств с моей стороны!
Но прежде всего мне хочется подчеркнуть, что он завоевал мою симпатию и что глаза его время от времени затягивала мутная пелена.
Однако это дает мне право сказать наконец то, что все время вертится у меня на языке, а именно: если бы я мог познакомиться с ним прежде, чем началась история, в которую он нас втянул, я, безусловно, стал бы Вас отговаривать и, уж во всяком случае, сам решительно отказался бы участвовать в ней.
На Вас все это наверняка производит странное впечатление, ибо Вы чувствуете, что этот вывод никак не связан с моими возражениями против плана Динклаге, продиктованными политическими и военно-техническими мотивами. Мои слова звучат так, словно я считаю Динклаге недостойным нашего доверия. Об этом, конечно, не может быть и речи. О майоре Динклаге можно сказать что угодно, но это человек надежный, строго последовательный, быть может, слишком последовательный, если иметь в виду то, что он задумал и что требовал от меня. Нет, тут что-то другое, я не могу этого объяснить и не могу найти иного слова, кроме «чужой». Майор Динклаге для меня чужой, и я, или правильнее сказать: мы — чужие для Динклаге; именно это заставляет меня теперь, оглядываясь назад, рассматривать наши отношения с ним как ошибку, как недоразумение.
Попытаюсь объяснить Вам. Видите ли, дорогой г-н Хайншток, Вы, я и наверняка та дама, с которой, в силу Вашей привычки делать из всего тайну, я так и не смог познакомиться, все мы — если исключить сомнения делового порядка, критику, касающуюся технических деталей, — ринулись в это дело без долгих раздумий. Так сказать, без оглядки. Если позволите, я осмелюсь даже сказать: с радостью. Мы с первой же минуты действовали слаженно, работали сообща, образовали gang[90] — полагаю, я могу воспользоваться американским словом; да и капитан Кимброу, этот анархист-южанин, отбросив сомнения юридического порядка, сразу согласился участвовать в этом деле, хотя и шел на немалый риск. Четыре совершенно разных человека. Но, когда мы, при определенном стечении обстоятельств, оказались связанными друг с другом, выяснилось, что мы друг другу подходим. Только один не подходит — Динклаге. Вы знаете таких мальчиков - во время игры они всегда стоят в стороне, скованные, замкнутые, беспомощные. Предпочитают не участвовать в игре, а забиться в угол двора. Динклаге играл с нами неохотно-я отчетливо почувствовал это, когда наконец встретился с ним. Вы возразите, что игру начал он. Тут у меня есть некоторые сомнения, я восхищаюсь проницательностью Кимброу: когда я рассказал ему, что этот план передала Вам та-самая незнакомая мне особа, он сразу заявил, что решение Динклаге было ускорено. (Надеюсь, Вы не посетуете на меня за болтливость-в конце концов, Кимброу имел право узнать, что за всем этим не стоят какие-то сверхъестественные силы.)