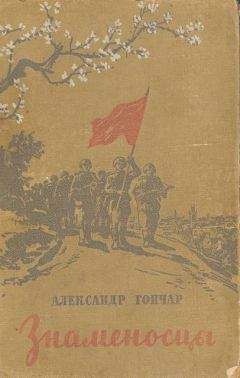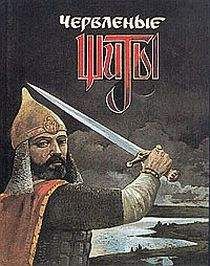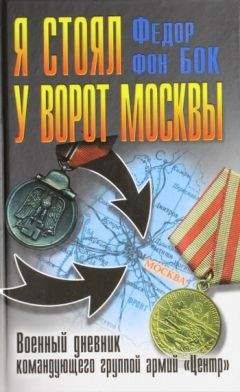— Цела-целехонька! — не унимался Маковей, похлопывая ладонью теплую, нагретую солнцем пушку. — Еще и заряжена! Однако Ясногорская на этот раз даже не слыхала его.
Пушка стояла в круглой яме-ячейке, уставив свой длинный хобот в голубую высоту весеннего неба. Телефонист еще что-то кричал, но Ясногорская не оглядывалась.
Тогда парень, недолго думая, припал к механизму пушки…
Прозвучал выстрел. Одинокий и потому удивительно резкий среди этой огромной тишины. Пролетел далеко над полями, и эхо еще долго перекатывалось в берегах, в лесах и оврагах. Тысячи людей на мгновенье застыли, удивленно прислушиваясь. Казалось, что это прозвучал последний выстрел на земле. В высокой синеве распускался белый цветок взрыва. Наверное, этот цветок виден был и с дальних чешских селений, едва проступавших на западе из сплошных садов.
— Что ты делаешь? — спохватившись, накинулись на Маковея командиры.
— Я хотел выстрелить вон туда, — смеясь, показывал озорник рукой в небо.
— Куда?
— В синеву… В стратосферу!
В конце концов парень и сам не знал, для чего он выстрелил. Может быть, для нее, для Шуры Ясногорской?
А, может, он салютовал миру, который, приближаясь издалека, уже чуть слышно трубил навстречу людям, которые добывали его.
Полки, стянувшись в колонны, летели вперед. Рассекая горячие, разомлевшие от зноя поля, навстречу бежал асфальт, сплошь политый свежей водой. Празднично одетые чехи и чешки неутомимо поливали его с утра до вечера, чтобы не пылила дорога, чтобы не падала пыль на освободителей.
Чистые, красивые села и городки, утопающие в молодой зелени, подняли над домами красные советские и трехцветные национальные флаги, которые трепетали, словно вымпелы множества кораблей в огромной гавани. Весь мир стал сразу необычайно ярким и пестрым. Сквозь вдохновенный людской гул безостановочно проходили войска.
— Наздар! — единой грудью восклицала освобожденная Чехия. — Наздар! Наздар! Наздар!
— Ать жие Сталин!
— Ать жие Руда Армада!
Триумфальные арки возникали на пути полков, словно вырастали из плодоносной чешской земли.
Хома Хаецкий пролетал под этими радужными арками одним из первых. Грива его коня уже третий день расцвечена пахучей сиренью, автомат обвит цветами и лентами. Украшали его белые худенькие руки освобожденных сестер, лица которых подолянин даже не успевал запомнить.
Наступал всемирный праздник, которому, казалось, не будет конца. У каждого двора на чисто вымытых скамейках стояли ведра с холодной водой и хмельной брагой, а возле дворов побогаче — бидоны с молоком и бочки с пивом. Радостный, энергичный народ без устали угощал желанных гостей. Среди машин и лошадей храбро сновали ребятишки с полными ведрами, наперебой протягивая каждому кружку, наполненную от души — до самых краев!.. И какое счастье светилось в ясных детских глазах, когда боец, наклонившись с седла, брал кружку и, улыбаясь, пил добрыми солдатскими глотками.
— Я обпиваюсь в эти дни, — хвалился Хома перед товарищами. — Не могу никому отказать, у каждого пью.
Всякий раз, угощаясь, он успевал перекинуться с чехами хоть несколькими словами. Прежде всего интересовался, давно ли прошли здесь немцы.
— Час назад… Полчаса назад… — отвечали чехи, мрачнея при одном лишь напоминании об оккупантах.
— Чудно́! Чудно́ мне, братцы! Когда вы успели столько флагов наготовить, да еще и вывесить?!
— О, пан-товарищ! Прапоры у нас готовы еще с сорокового года, — дружно признавались чехи. — Шесть лет мы ждали этого благословенного дня. Мы знали, что вы нас не забыли, что вы придете и Ческословенска будет!
— Уже есть! — вытирая усы, говорил Хаецкий с таким видом, будто передавал тут же эту Ческословенску в руки своим собеседникам. — Держите крепко, бо дорого стоит!
Чехи отвечали хором, словно присягали:
— Пан-товарищ, будем, как вы!
Полк Самиева в этом наступлении делал по полсотни и больше километров в сутки, однако ни один боец не отстал. Все подразделения были на колесах. Автоматчики мчались вперед на велосипедах и мотоциклах, припадая на крутых виражах почти к самой земле. В повозках тесно сидели усыпанные цветами пехотинцы, выставив во все стороны примкнутые штыки, и от этого повозки были похожи на больших катящихся ежей. В голове колонны неслись конница и полковая артиллерия, готовые по первой команде вступить в бой.
Несколько раз в сутки вспыхивали короткие, молниеносные стычки с вражескими заслонами, после чего дорога снова становилась свободной, и полк опять сжимал крылья своих боевых батальонов, словно птица в стремительном полете. Главные механизированные силы немцев бежали на Прагу, остальные, не поспевая за ними, сворачивали с основных магистралей, рассыпались по лугам-берегам, зарывались в стога сена, волками бродили в лесах, собираясь в бандитские шайки. Там за ними охотились неутомимые чешские партизаны. Трудно было палачам избежать суда в эти дни, когда, как судьи над ними, поднялись целые народы!
Как-то в полдень полк приближался к большому чешскому городу, выросшему на горизонте лесом заводских труб. После веселых белых поселков, которые то и дело кокетливо вытягивались вдоль шоссе, панорама индустриального города, за долгие годы насквозь прокопченного и усыпанного заводской сажей, показалась Хоме необычной для этого края. «Такая маленькая страна, и такие крепкие заводы! — с восторгом думал Хома, проникаясь еще бо́льшим уважением к чехам. — Жилистый народ, такой, как и мы!»
Немцев в городе уже не было, но следы их еще не выветрились: темные городские окраины мрачно полыхали огромными пожарами. Горели длинные заводские корпуса, пылало круглое железнодорожное депо с проломленным черепом крыши. Некоторые строения уже совсем сравнялись с землей, превращенные силой взрыва в сплошные развалины. Стены уцелевших построек снизу доверху были изрезаны причудливыми зигзагами трещин. Отряды черных, мокрых рабочих, вооруженных брандспойтами, пытались тушить пожары, но их усилия не давали почти никаких результатов. Все вокруг дышало удушливым жаром.
«Когда они успели учинить такой погром?» — гневно думал Хаецкий о немцах, подъезжая к бетонированному заводскому забору, покосившемуся от удара воздушной волны. Близкое пожарище пахнуло ему в лицо, словно южный суховей.
Едва Хома остановил коня, как его окружили измазанные, возбужденные рабочие. От них Хома узнал, что заводы были разбомблены всего лишь час назад, и сделали это не немцы, а «летающие крепости». Это от их бомб зияют между цехами воронки, на дне которых выступила подпочвенная вода, — ею пользовались сейчас рабочие, из брандспойтов заливавшие пламя.
В первый момент Хома был искренне восхищен такой работой авиации союзников. «Молодцы, вот так давно бы надо!..» Но рабочие вскоре погасили его восторги. Оказалось, американцы налетели на заводы, когда немцев здесь уже не было.
— Выходит, промахнулись, — с сожалением сказал Хома. — Не рассчитали.
Рабочие держались другого мнения. Видимо, этот налет их не только не восхищал, но даже вызывал возмущение, хотя они и старались сдерживать его, как могли. Хома уловил в их голосах горькие нотки. В чем дело? Можно допустить, что летчики ошиблись, войдя в азарт. Но почему рабочие так беспокоятся об этих предприятиях? Разве мало жил вытянули из них капиталисты, разве мало за свою жизнь эти рабочие наглотались сажи ради чужих прибылей?! Пусть горит!
В беседе, однако, выяснилось, что дело не так просто, как, на первый взгляд, казалось Хоме. Далеко не так, товарищ! Терпеливее других втолковывал это Хоме простоволосый, коренастый юноша в промокшей от пота майке. Его грязная, огрубевшая в работе рука спокойно лежала на седле Хомы. Тугие жилы вздулись на ней, синея, как реки на карте. «Тоже двужильный», — сразу окрестил чеха подолянин, считавший себя двужильным.
Юноша, как и многие чехи, довольно свободно говорил по-русски…
— Правду сказал советский товарищ — эти заводы из нас жилы вытягивали. Было так, вытягивали. Но не все вытянули, для себя кое-что осталось. — Юноша весело взглянул на Хому. — И сажи наглотались вволю. Да, это правда. Но отныне говорим: довольно! Хозяева фирмы, господа акционеры, удрали доживать свой век где-нибудь в швейцарских виллах. Все это мает стать людовым, народным. Все будет конфисковано. Вся Ческословенска отныне есть хозяин тотем заводам.
Не зря рабочие тушили пожары. И не зря чехи в претензии к панам-американцам за их запоздалые бомбы.
— Они и на фронте выше всего ставят свой бизнес, — мрачно сказал кто-то в толпе рабочих.
Хома не понял слова «бизнес», однако не стал расспрашивать у чехов, что это за зверь. Лучше он после спросит об этом у своего замполита. Сейчас, выслушивая сдержанные жалобы рабочих, Хома чувствовал себя довольно неловко. Впервые ему, дерзкому, острому на язык подолянину, нехватало слов для ответа. Он, как солдат, хотел бы взять на себя всю ответственность за действия союзников, но в данном случае он этого сделать не мог. Но и хулить американцев ему не позволяло собственное достоинство, достоинство честного союзника. И тут, возле разгромленных пылающих заводов Хома впервые серьезно насторожился, пытаясь постичь не совсем понятные ему действия «летающих крепостей».