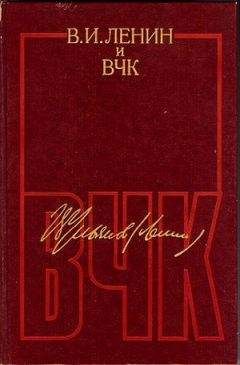Я побагровел, наверное, потому что почувствовал на лбу горячий пот, и чуть было не нагрубил старшине, но вдруг раздался голос:
— Товарищ старшина, фуражку-то ему брат подарил, потомственная выходит.
Сказал это Коля Гвоздев, самый маленький среди нас, новичков заставы, и самый дотошный. Звали мы его Гвоздиком, потому что он всегда втыкался в распри между нами и как бы сколачивал, накрепко сшивал нас, точно одну доску к другой. На этом Гвоздике держались дружба и согласие во взводе.
Старшина, услышав Гвоздика, поднял тяжелые щетинистые брови, посмотрел на меня изучающе, кашлянул в кулак и буркнул:
— Пойдет. Наш, пограничный почерк.
Ребята довольно переглянулись, а мне сделалось не по себе: шуму с этой фуражкой наделал, а вдруг силенок не хватит, чтобы оправдать ее. Брат предупреждал меня, что служба — труд, солдат не гость, да и я после двухмесячного курса обучения прекрасно понимал, как много требуется от настоящего пограничника. Теперь мне никак нельзя было не только тянуться в в хвосте, но и ходить в середнячках.
Нам, новичкам, страсть как хотелось скорее выйти в дозор. Часто, бывало, я поглядывал на гору, у подножия которой стояла на берегу небольшой, но сердитой речки одинокая мельница. К этой мельнице сходятся все дороги и тропы пограничья, а от нее вверх на перевал уходит только одна, глубоко выбитая конскими копытами тропа. Она, точно натруженная жила, узловатая и черная, вьется меж булыжников и валунов на двуглавую вершину, где виднеется тригонометрический знак с отметкой высоты четыре тысячи метров. Я, парень равнинного Зауралья, никогда не видывал таких гор и с нетерпением ждал того часа, когда пошлют меня в наряд на эту мраморную чародейку, но начальник заставы не посылал туда ни меня, ни моих сверстников-первогодков, как будто боялся, что мы не выдержим в таком наряде, и на наше нетерпение однажды ответил:
— Не спешите, стояла эта горка века, а дни обождет, не развалится, она, к вашему несчастью, мраморная.
Кто-то из старичков, находившихся с нами в кругу, заметил:
— Наоборот, к их счастью, товарищ капитан. Мраморная-то кормилица наша.
Капитан понимающе улыбнулся и, видя наше недоумение, объяснил:
— Да-да, за нее мы получаем и сыр, и масло, и сгущенное молоко. Застава наша стоит в низине, а из-за Мраморной нам дают высокогорный паек.
Так вот на эту мраморную кормилицу попал я в хмурый осенний день, когда ущелья дышали уже холодом и земля была стылой и будто бесчувственной, безразличной ко всему. Старший наряда, рослый, угловатый с виду парень, увалень-увальнем, оказался таким ходоком, что на первом же километре, как мы спешились и повели лошадей в поводу, вымотал меня окончательно. Шаг у него ровный, широкий и податливый, а мой, как ни тяну ногу вперед, получается воробьиным, приходится частить, чтобы не отстать, но тут подводит дыхание. Присесть бы хоть на минутку, но старший шагает вперед. Тогда я не знал, что старички подобное называют «протащить» и применяют это к тем, кто сильно храбрится, но я попал, видимо, под это испытание из-за братовой фуражки; пусть, мол, хватит соленого пота и узнает, что такое граница. Действительно, пропотеть пришлось настолько, что через ворот моей шинели повалил пар, как из бани, но до двуглавой вершины Мраморной я все-таки дотянул и как только ступил ногой на ее водораздел, не сел, а просто упал, подкошенный усталостью. Ничто не было мило: ни открывавшаяся с орлиного полета панорама, ни дикая, первозданная красота гор, ни затейливые узоры на мраморных, до блеска отполированных плитах, — все это было перед моим взором, в то же время как бы не существовало, не трогало меня, и я смотрел на окружающее как бы со стороны и не мог понять, что нашел тут Павел Дроздов особенного, чарующего.
А он, посмотрев на меня с жалостью, сел на коня и ускакал вдоль по водоразделу, сказав, что проверит старую контрабандистскую тропу. Как-то странно прозвучало это «контрабандистскую» в такой мирный осенний день и здесь, где спокойно гуляют на склонах гор отары и люди возделывают в долине хлебородные поля.
Прошло минут десять, как уехал старший наряда, а я все не мог прийти в себя. И тут на макушке Мраморной показался всадник, точно вырос из земли. Он одет как солдат времен гражданской войны: защитного цвета, видавшая виды форменная фуражка с красной звездочкой, гимнастерка, солдатские шаровары, сапоги, сабля, при всех орденах. У аксакала белая борода клином, осанка бравая, держится в седле крепко.
— Стой, руки вверх! — крикнул я что есть мочи и вскочил, но старик как будто не слышал, только улыбнулся, подъехав ко мне вплотную, слез с коня, точно в гости пожаловал, готов и поводья подать, как водится в гостеприимной казахской степи.
— Салям, джигит, салям, сынок! — старик протянул мне костлявую, жилистую руку, и только теперь я понял, что имею дело со своим в здешних местах человеком, кому верят, кого уважают и ценят пограничники.
Поздоровавшись с аксакалом, я не знал, что делать, как вести себя, и, точно угадав мою растерянность, старик с достоинством вынул из нагрудного кармана пропуск, показал его и сунул опять в карман. Закинув поводья за переднюю луку седла, он похлопал коня по крутой шее и молча пошел к гранитной скале. Когда старик снял фуражку и склонил голову перед мраморной плитой, я заметил, что на стене что-то высечено крупными буквами. Приблизившись к скале, я прочел:
«Здесь 25 сентября 1930 года геройски погиб в бою с басмачами Арсентий Филиппович Богатырев, Вечная ему память».
Старик, постояв с минуту, спустился вниз к низкорослой, но ветвистой арче, срезал ножом несколько веток, сплел их в венок и положил его на холмик у скалы. Потом, не покрывая головы, сел на камень рядом с могилой и, не обращая на меня внимания, погрузился в раздумья. Аксакал не плакал, но со стороны было видно, что скорбит он по дорогому человеку.
Кто он, отдавший здесь жизнь Арсентий Богатырев? Этот вопрос я не решился задать ни старику, погруженному в глубокие думы, ни старшему наряда, когда он подъехал ко мне: душа моя была переполнена увиденным, и где-то около самого сердца щемила ноющая боль, точно я тоже потерял близкого человека. Горы монотонно гудели какими-то скорбными звуками, и мне казалось, что они выводят траурную мелодию.
Когда мы спустились к мельнице, Павел Дроздов сказал:
— Вот здесь живет тот старик, а туда поднимается каждый год в этот день. Там похоронен его командир.
Я хотел попросить Дроздова рассказать все, что он знает об этих людях, но тот, опередив меня, пояснил:
— Все узнаешь, скоро он будет на заставе. Каждое пополнение встречать приходит, напутствие дает.
Через два дня дед Босали приехал на заставу в той же форме солдата 30-х годов, только без сабли и рассказал о многом — и о командире коммунистического отряда Арсентии Богатыреве, и о себе, и о мужественной разведчице Илиме Усеновой.
Арсенжан, как называли в степи политического ссыльного Богатырева, хорошо владел казахским языком и долгие годы скрывался от полицейских на далеких зимовьях в сутулых юртах бедноты. Он рассказывал кочевникам о Пушкине и Лермонтове, о декабристах и революционерах нового века, а самое главное — об Ильиче. Говорил он об этом горячо и страстно, заражая всех своим волнением.
Арсентии был своим человеком в каждом ауле высокогорья, и любой бедняк посчитал бы великой честью выдать за него свою дочь, да и девушки, наслышанные о нем, были бы счастливы соединить свою судьбу с Арсенжаном, но он ни одной из них не делал предложения, а когда аксакалы намекали на женитьбу, отвечал:
— Как вырвем из рук баев власть, так и свадебный той устроим.
Сбылась мечта Арсентия: революция принесла свободу народам степи, в первый же год, как организовался колхоз, избравший его председателем, он женился на бойкой красавице Илиме Усеновой и вручил ее отцу акт о передаче артели на вечное пользование землей. «Это, — сказал Арсентий, — мой калым за невесту». Растроганный старик ответил: «Такого калыма, сын мой, ни один бай во всем Семиречье не видывал. Да будет жизнь ваша светла, как солнечный день».
Были у Илимы и Арсентия солнечные дни, наполненные любовью и счастьем, но скоро над родной степью нависли тяжелые тучи: подняли голову баи и муллы, белогвардейцы и контра разных мастей. Запылали селения, полилась людская кровь.
На колхоз «Светлый путь», где председательствовал Арсентий, напала банда, но отряд коммунистов-добровольцев дал ей отпор, а потом, собрав мужиков всей округи, ушел вместе с красноармейцами громить бандитские шайки. Не отстала от Арсентия и Илима. Она была в отряде и заботливым хозяйственником, и медсестрой, и поваром, а по вечерам у партизанского костра пела песни.
За красивый звонкий голос комотрядовцы называли ее жаворонком и особенно ревниво оберегали в походах. «Нельзя потерять песни Илимы, потому что без песни погибнет весь отряд», — говорили они.