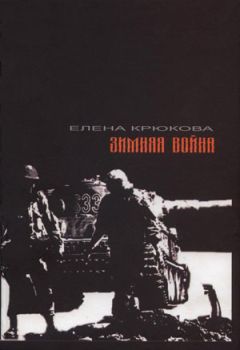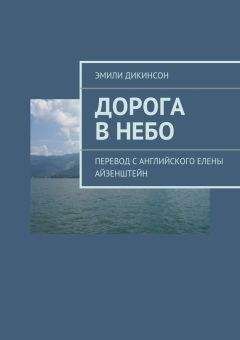Она спустила курок. Собака подпрыгнула высоко, вздыбила холку, визгнула, упала на спину, судорожно, по-паучьи, забила задними лапами. Стася, ты убила собаку! Не человека! Собаку! Всего лишь собаку! Собаку…
Она упала головой на приклад, и густое, басом, рыданье, порвав завесу стыда, вырвалось из нее.
— Они уже близко, девоньки!..
— Монахи, братья, мужайтесь, последние дни настали, ведь это Армагеддон, Армагеддон последний… запоемте псалмы… начинай, Никодим… Живый в помощи Вышняго…
— Ты, петух поморский!.. Гони сюда гранату… Она — на вес золота…
— Гранатам конец быстро придет, а твои пики, волчонок, тебя не спасут…
Огонь бил, полыхал из автоматов, очереди прошивали замкнутые двери и забитые накрест окна. Вопли раненых наполняли подкупольный церковный простор. Что дальше, Иакинф?! Вот она, самая страшная Зимняя Война. Ты не хотел этих смертей. Этого сраженья — за вас за всех — захотел Господь.
Мороз прошел серебряными иглами по спине Иакинфа. Под сапогом подалась, проломилась дверь. Солдаты вбежали в храм. Бабий визг усилился троекратно. Люди схватились не на жизнь, а на смерть в уродливом, немыслимом рукопашном бою. О церковь, в твоих приделах люди убивают друг друга. На алтаре льется кровь. Бог, Ты сейчас причащаешься сам, один, в ледяных небесах, нашим земным страшным Причастьем.
Люська проползла меж сапог, лаптей, кирзачей, босых окровавленных ног, уперлась теменем и кулаками в крохотную дверь, пробитую в алтарной стене и прибитую еловыми досками; проржавленные гвозди вывалились наземь, дверь рухнула, выпав наружу, на подмерзлый гладкой ржаной коркой наст.
— Бегите! Бегите, родные! — лежа, как раненая острогой белуха, на каменных щербатых плитах, надсадно заорала она. — Бегите в тайгу! В леса! Там укроетесь! Там и помрем все, но медленно казнить себя уже не дадим!
Каторжники, орудуя самодельными пиками и копьями, сделанными из старых портновских ножниц, из воровских ножей, из рыболовецких монашьих острог, отступали к белому маленькому квадрату низкой дверцы. Внутрь храма залетал снег.
Снег повалил с небес как очумелый, и заливисто, захлебываясь, лаяли собаки, и визжали, катаясь по снегу, раненые солдаты, и автоматные очереди снаружи, из снеговой беличьей белизны, продолжали поливать огнем храм и людей в нем, и Иакинф ругался непотребными, отчаянными словами, и борода его развевалась на ветру, и Стася, подхватив младенца на руки, побежала, через весь храм, не хоронясь от чужих рук, от пуль и пик, грудью вперед, к белой снежной пустоте, и Бог хранил ее, не дал ни копью всадиться ей под лопатки, ни пуле вонзиться меж ребер, и Иакинф от радости перекрестился, видя, как она выныривает из обреченного храма на свободу, в Белое Поле, — а собаки остервенело рычали, взлаивали, хватали людей за ноги, перегрызали им глотки, откусывали кисти рук, и люди били людей и собак по головам, и кровавая мешанина кипела в храме, как в Диавольском котле, и рыбы-люди выныривали из варева крови и окунались в варево мороза, и бежали, надеясь спастись, да только летящий огонь настигал их, косил под корень, срезал ослепительным серпом, и Иакинф уже помраченным взором видел, как Стася, с ребенком на руках, бежит, бежит — и вдруг падает в снег, накрывая животом своим младенца, — ох, младенец, ты не Царской крови, но коль тебя Цесаревна животом своим закрыла, ты пророс жизнию своею сквозь жизнь и печаль Царскую, вечную, — что с ней?!.. подранили ее?!.. нет, встает и бежит опять, это она от пуль ее защитила животом своим, от смерти верной; и в небе над Островами ширится, растет немыслимый, грозой налетающий гул, он падает черным водопадом, он разбивается черным прибоем, он закрывает лица, уши, глаза черным платом дикого страха, — а, это военные самолеты летят, это союзные самолеты, это свои или чужие?!.. сам Дьявол в нашей Войне ничего не разберет, а может, это наше возмездье летит, может, Богу надоело глядеть, как мы тут, не хуже собак, друг другу глотки перерываем; и наслал на нас страшную кару, небесное наказанье, — и оттуда, с неба, полетел на съежившиеся, сжавшиеся в один кровавый и мохнатый лесной комок Острова наказующий огонь, и рвались склады и сараи, лабазы и бараки, разрушенные храмы и распятые святые могилы, и люди валились наземь, в снег, купая лица и красные от мороза ладони в снегу, и вопили от ужаса, и крестились, и взывали: «Не надо!.. Нам нашу, нашу жизнь оставь!..» — но Бог не слушал их, Бог делал свое дело, ледяно и равнодушно, и самолеты продолжали бросать огонь на Острова, и собаки лаяли, и люди кричали и хрипели, кончаясь в муках, рождая в неистовых страданьях новую, все понимающую, Божью душу свою.
— Стася!.. Быстрей беги!.. Лес рядом!.. Молюсь за тебя!.. — успел крикнуть, сам себе — она уже никак слышать его не могла, — отец Иакинф, а на него уже насели двое солдат, вязали ему руки за спиной, волокли, и человек с лицом Федьки Свиное Рыло — но это был не он, не Федька, он побожиться бы мог, — всадил в него, ему до хребта, как две пики, пьяные, колючие бутылочные зенки, и взвопил натужно: «А-а-а!.. Монашек!.. Натравили всех они, падлы… Ра-аспя-а-ать!..» — и, когда до Иакинфа дошел непреложный, единственный смысл выкрикнутого зверино слова, невыразимый покой и чистая радость снизошли в его душу, и он вздохнул глубоко, и возблагодарил Господа за повторенье смерти Его — так, как благодарили его и Петр, и Андрей, и Павел, и сотни и тысячи безвестных мучеников, живот за Него положивших.
И, когда его волокли к наспех сколоченным накрест полусгнившим доскам, коими была забита алтарная запасная дверца, и прикладывали его ладони к холодному дереву, и вбивали ему в кисти сапожные гвозди — не молотом, как тогда, на той Голгофе римские солдаты творили, а клещами, найденными близ испоганенного алтаря, а тяжелыми прикладами и коваными сапогами, — и когда воздымали сей чудовищный Крест над толпой орущих, погибающих в тесноте замордованного храма, проклявших все на свете, и себя и Бога, бедных людей, и его видели все снизу, и он видел всех сверху, — он шептал умиленно, и слюна стекала ему на бороду, и кровь текла по его пробитым ладоням, и бледный пот выступал на его висках и щеках:
— Стасинька, ты спаслась. Ты спаслась!.. Отец тебя не оставил. Он святой, твой Отец, там, в небесах. И Люсинька спаслась. Она бежала рядом с тобой. Я видел. Видел!..
Брюхатую Люську, визжащую, кусающую губы до крови, бьющуюся, как севрюга в дырявой мереде, волок за волосы по снегу за руины монастырской трапезной пьяный победивший охранник.
Мы хоронились в лесу. Мы едва не замерзли.
Каждую ночь он меня спасал. Он шел ко мне.
Я издали, через прижмуренные веки, видела свет его золотого шлема. Я сознавала, что это сон, сон от голода и холода, но я хотела, чтоб он мне снился, и он продолжал мне сниться. Когда он подходил ближе, золотой шлем обращался в Корону. Я протягивала руки, чтобы потрогать Корону — в детстве я любила трогать Корону, когда Отец, на торжественной дворцовой церемонии, надевал ее, и вдруг ласково брал меня, подбегавшую к нему вопреки негодующим ахам моих бонн и мисс, на руки, и я могла коснуться раскидистого золотого деревца, золотого червонного сердца, как в картах, сияющего надо лбом Отца, поласкать пальчиком ярко-розовую, с кровавым отсветом, шпинель, сверкающую прямо под золотым крестом на самом верху Короны, а потом и густо-синий, вспыхивающий солнечными искрами изнутри, громадный сапфир, торчащий ниже впаянной в золото шпинели, и Отец благосклонно улыбался мне: он любил, когда я осязала Корону, и я чувствовала, что ему приятно, что я ее трогаю. И я, доверяясь ему безоглядно, смеялась у него на руках и трогала пальчиком и его улыбку.
Придворные еле сдерживали негодованье. Мама Аля стояла за спиной Отца, прикладывала палец к губам: тише, наше Солнышко, Стасенька, веселится, не будем запрещать. Ведь она же Наследница. Она выйдет замуж за Греческого Принца, и я буду крестной матерью у ее первенца.
Отец подходил ко мне близко, и я ощущала на плечах шубу, и мне становилось тепло, и я согревалась, и благодарно запахивалась в роскошный мех. Откуда шуба, Отец?.. Тебе это снится, Стасенька. Я еще принес тебе и малышке еды, но это тебе тоже снится. Однако не побрезгуй.
Он раскладывал передо мной на снегу камчатную скатерть, бывшую на нашем обеденном столе в Санкт-Петербурге, и я с болью видала, как огрубели, покрылись мозолями, шрамами и трещинами его любимые руки. Должно быть, он научился хорошо стрелять… копать землю… рубить избы и лодки. Да ведь он и тогда умел это делать лучше всех.
Поешь, душа моя. Это все твое.
Я остановившимися глазами глядела на мой сон. Черная икра на серебряных блюдечках, тонко нарезанные лимонные дольки, сливки в фарфоровом молочнике, свежие булочки, крендельки; для малышки — манная каша с вишневым вареньем в глубокой глиняной миске. И рыба, рыба, много толсто накромсанной, большими кусками, кусищами, красной рыбы — семги, севрюги, осетра, — соленая, копченая, масляно, нефтяно-радужно блестящая невидимой нежной пленкой на срезах. И запахи, поднимавшиеся от снеди, били мне в лицо, как разящие солдатские пули.