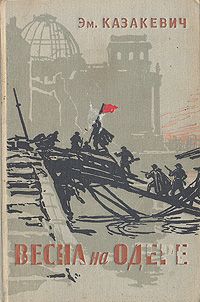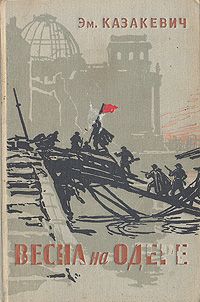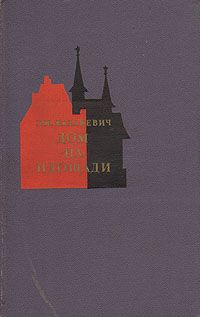На опушке леса Мещерский остановился. Вдали пестрели крыши Гельтова. По зеленой равнине к деревне медленно двигались цепи советских солдат. С ожесточением стреляли пулеметы. То тут, то там взлетали вверх клубы дыма и пыли, похожие на вырастающие на мгновение из земли черные деревья. Затем слышался звук взрыва. Это немцы, отброшенные к Гельтову, обстреливали оттуда равнину из минометов.
На холме, у опушки, Мещерский увидел Четверикова, Мигаева и других офицеров полка. Четвериков, широко расставив кривые ноги, глядел вперед в бинокль.
— Первый и третий батальоны ворвались на окраину, — сообщил снизу, из окопчика, телефонист.
Мигаев сказал Мещерскому, что гвардии майор только что был тут и ушел вперед.
Мещерский очень сердился на себя за то, что увлекся осмотром сооружений Потсдама и в нужную минуту не оказался на месте.
— Как нехорошо! — укоризненно бормотал он.
Действительно, он нашел разведчиков лишь тогда, когда бой был уже закончен. Немецкие солдаты на лодках и вплавь удирали обратно через Хавель и озеро Швиловзее.
Гвардии майор стоял на берегу Хавеля и глядел в бинокль на противоположный берег, где находился городок со странным многозначительным названием: Капут. Рядом с Лубенцовым молча курили капитан Чохов и майор Весельчаков. Вокруг расположились на отдых пехотинцы и разведчики.
— Что-то слишком быстро они удрали, — задумчиво сказал Лубенцов, опуская бинокль. — Минометы бросили…
Вскоре бегство немцев объяснилось. С противоположного берега донеслось прерывистое гудение многих моторов. Несколько минут спустя на прямых улицах Капута появились танки с красными флагами на башнях. Один танк вырвался к самому берегу и остановился как раз против того места, где по другую сторону узкого пролива стояли Лубенцов, Чохов, Весельчаков и Мещерский.
Танкисты, видимо, заметили их. Люк танка открылся, оттуда показалась голова в шлеме. Танкист начал внимательно вглядываться в противоположный берег.
Лубенцов сложил ладони трубкой у рта и громко крикнул:
— Здорово, ребята-а-а!..
— Здорово-о-о!.. — донеслось с другого берега.
— Откуда, ребята-а-а?…
— Первый Украинский, ребята-а-а!.. А вы-ы-ы?…
— Первый Белорусский-и-ий! — крикнул Лубенцов.
Танкист помахал рукой в знак приветствия, потом сообщил:
— Даю салют!
И танк, содрогнувшись, выстрелил в воздух. Оглушительное эхо пронеслось над лесами, озерами, реками.
— Берлин в мешке, — сказал Лубенцов. — Надо доложить комдиву.
12-я армия генерала Венка, бросая оружие, бежала на юго-запад. В последующие два дня она растаяла, как дым.
Утром 1 мая Лубенцов решил, наконец, поехать к Тане.
Улицы Потсдама были в этот день особенно оживлены. Всюду висели красные знамена и происходили митинги солдат, на которых читался первомайский приказ Сталина, и слова приказа гремели над домами прусской столицы:
«Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная Армия отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталинградом».
«Мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии — дело самого ближайшего будущего. Гитлеровские заправилы, возомнившие себя властелинами мира, оказались у разбитого корыта».
Сталин обращался к своим солдатам с призывом:
«Находясь за рубежом родной земли, будьте особенно бдительны!
По-прежнему высоко держите честь и достоинство советского воина!»
У советской комендатуры стоял огромный хвост немцев и немок, которые пришли сюда, согласно приказу Советского командования, сдавать оружие. Немцы стояли чинно, держа в руках охотничьи ружья немножко в отдалении от себя, чтобы никто не заподозрил их в нежелании разоружиться.
Солнце светило особенно ярко сегодня.
Дивизия полковника Воробьева находилась в Шпандау, и Лубенцов в сопровождении своего ординарца отправился туда.
Переехав через канал, Лубенцов окунулся в гул и грохот больших дорог.
Опять шагали во всех направлениях люди всех национальностей. Опять двигались на велосипедах, в повозках и пешком пестрые кочующие таборы освобожденных людей. Развеселым строем шли бывшие военнопленные союзных армий — французские, бельгийские, голландские и норвежские солдаты — в обтрепанных за время плена мундирах.
На огромных помещичьих фурах, размером с добрый автобус, среди светловолосых англичан белели чалмы колониальных солдат, пестрели гофрированные юбочки шотландских гвардейцев. Среди бледных лиц освобожденных из тюрем американских летчиков мелькали черные лица негров. Американцы в этот момент ликования и всесветного равенства не гнушались близким соседством потомков дяди Тома. Наоборот, на виду у проходящей мимо советской силы американцы и англичане демонстративно обнимали своих негритянских и индийских соратников, и цветнокожие улыбались, скаля белоснежные зубы и думая, вероятно, что так уже будет всегда.
На перекрестке дорог в большой деревне стоял Оганесян, которого политотдел мобилизовал для разъяснения союзникам приказов советского командования насчет пути их следования.
Рука Оганесяна ныла от тысяч пожатий. Все звездочки на его погонах, не говоря уже о звездочке на пилотке, перешли во владение освобожденных военнопленных — американцев и англичан, — настойчиво требовавших что-нибудь «на память». Он еле спас свой орден Красной Звезды, который тоже чуть было не сделался добычей одного американца, особенного любителя сувениров.
— Вы видите? — спросил Оганесян, горячо пожимая руку гвардии майора. — Тут нужен Суриков или Репин! Меньше никак нельзя!.. А вы куда?
Лубенцов пробормотал что-то нечленораздельное в поспешил проститься.
Чем ближе подъезжал Лубенцов к Шпандау, тем тревожнее становилось у него на душе. Перед самым городом он так струсил, что чуть было не повернул обратно. Он остановил коня и посмотрел на Каблукова.
— Собственно, надо было бы передать Антонюку… — пробормотал Лубенцов, но что такое следовало передать Антонюку, он не сказал по той простой причине, что передавать было нечего.
Наконец он отпустил поводья, и Орлик поскакал дальше. Миновали военную дорогу «Ост-Вест» и въехали на западную окраину Шпандау, где в одном из домов у железной дороги находился штаб дивизии.
Здесь была хорошо слышна артиллерийская канонада, доносящаяся из Берлина. Горизонт над Берлином пылал. То и дело показывались в небе советские самолеты, летевшие бомбить последние очаги немецкого сопротивления в столице Германии.
В штабе дивизии Лубенцов пробыл два часа. Он подробно ознакомился с обстановкой на этом участке, нанес все данные на карту для доклада своему комдиву и все медлил, никак не решаясь спросить, где расположен медсанбат.
Гвардии майора выручил командир дивизии полковник Воробьев. Увидев разведчика, он сказал:
— А-а, посол от Тараса Петровича! Ну, что у вас нового?
Лубенцов рассказал о немецких дивизиях южнее Потсдама, шедших в Берлин выручать Гитлера.
Воробьев удивился:
— Значит, он все-таки в Берлине?! Видно, совсем уже некуда податься сукиному сыну!
— Что это у вас? — спросил Лубенцов, заметив перевязанную руку комдива.
— Ранило под Альтдаммом. Уже заживает. Я только что приехал с последней перевязки из Фалькенхарена…
Лубенцов попрощался и поскакал в Фалькенхаген. По дороге он несколько раз замечал на войсковых указателях красный крестик с надписью «Хозяйство Рутковского». Значит, он ехал правильно. В Фалькенхаген он прибыл, когда уже стало темнеть.
Возле домов, где расположился медсанбат, Лубенцов остановил коня, соскочил, постоял минуту и сказал Каблукову:
— Подожди меня здесь.
Он направился к дому, помедлил у входа. Наконец он решительно поднялся на крыльцо и вошел. В первой комнате никого не было. Он постучался в какую-то дверь. Женский голос, хотя и не принадлежавший Тане, заставил его вздрогнуть:
— Кто там?
Лубенцов ответил:
— Вы не скажете мне, где Кольцова?
Тот же голос негромко спросил у кого-то:
— Не знаете, где Татьяна Владимировна?
Лоб Лубенцова покрылся потом.
— В операционной, наверно, — послышался ответ.
— Нет, — сказал первый голос, — все раненые уже обработаны… Она у себя.
Дверь приотворилась, и к Лубенцову вышла высокогрудая брюнетка с очень черными, чуть раскосыми глазами. Из окон падал предвечерний свет. Лубенцов еще мог разглядеть ее лицо. Она же видела его плохо: он стоял спиной к окнам. Пристально глядя на него, она спросила:
— А зачем вам нужна Кольцова? Кажется, вы не ранены…
Ее голос звучал не слишком любезно.
Лубенцов сказал: