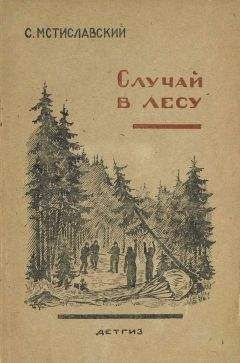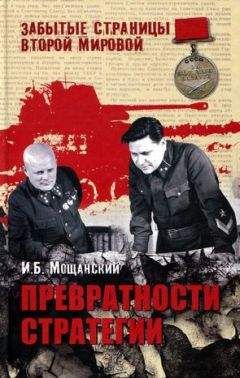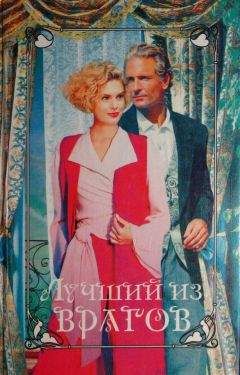Дежнев тем временем продолжал ругать себя за то, что не сумел правильно повести разговор, все сказал не так. Теперь она, наверное, прогонит его и будет права. Чтобы не сидел тут и не молчал, женишок. Но что, что он мог сказать – «Лена, я тебя люблю, давай поженимся, не могу без тебя»? Нет, что угодно, только не врать. Он ее не любил. Жалел – да; тогда пожалел, да и сейчас сердце сжималось от жалости, когда он смотрел на нее, такую неухоженную и усталую на вид, в этом приютском платье, когда представлял себе ее трудную одинокую жизнь. Хотя, конечно, если рассудить беспристрастно, сегодня жалость эта отчасти и надумана. Все-таки она с мальчонкой, значит, не так уж одинока, находится в тылу живая и здоровая, руки-ноги на месте, а что до трудностей – так кому теперь легко?
Но судить совсем беспристрастно он тоже не мог, это ведь мать его сына! Вроде бы уже что-то свое, родное. Поэтому и приехал – закрепить, узаконить это родство, а иначе зачем бы? Только вот ей, похоже, не очень-то это надо, другая бы обрадовалась... но Елена не «другая», и это, хорошо, что она не такая, как прочие. Об этом он тоже думал с того момента, как узнал, и это помогло его решению. Но что его решение? Теперь решать надо было ей.
Он поймал себя на мысли, что – если честно – все же надеется на отказ. Все может еще устроиться; вдруг она скажет, что у нее кто-то есть и этот «кто-то» готов взять ее с ребенком, – все останется по-старому, можно будет опять думать о Тане. Он ведь запретил себе думать о ней в тот день, когда прочитал Пашино письмо, думать и вспоминать о ней стало нельзя, иначе он просто не смог бы ничего решить...
Ну ладно, теперь уже от него ничего не зависит. Если ему сейчас скажут «нет», можно будет опять думать о Тане. Но тогда нельзя будет вспоминать о Борьке: ну как он там сейчас, как растет, не болеет ли, как учится, хорошо ли ему с тем, кого он зовет батей, и не найдется ли потом какая-нибудь стерва соседка (они обычно находятся), которая сообщит ему, что папка-то, дескать, у тебя совсем не тот... Да, умеет судьба подшутить, ничего не скажешь...
– Ну, что же ты молчишь? – спросил он охрипшим голосом. – А, Лен? Понимаешь ведь, что иначе нам нельзя...
– Не знаю, Сережа, – отозвалась она не сразу. – У меня нет уверенности, что это лучший выход.
– А в чем можно быть уверенным во время войны? Будешь ли завтра жив, и то неизвестно. Я ведь еще и из этих соображений... В случае чего, Борька ведь даже без фамилии отцовской окажется. Я уж не говорю про пенсию, о таких вещах тоже приходится думать.
– Не надо сейчас «о таких вещах», – умоляюще сказала Елена, – ни думать не надо, ни говорить, ты не представляешь, какой я последнее время стала суеверной...
– Все мы теперь суеверные. В одной роте, не поверишь, у комсорга в медальоне псалом какой-то нашли – меленько так от руки переписан, еле удалось замять дело... А говорить и думать приходится, – повторил он, – и тебе в первую очередь, если ты мать. Дело-то в нем, понимаешь, не в нас с тобой...
Елена горько усмехнулась. Если ты мать! Риторический оборот речи, употребленный им сейчас без всякой задней мысли, прозвучал для нее безжалостным напоминанием. Вот именно – «если». В первый раз она матерью стать не сумела, провалилась страшно и преступно, пожертвовав ребенком в угоду своему личному, не материнскому – женскому... Теперь-то – умом – понимает: если ты мать, откажись от всего своего, эгоистичного, забудь, что у тебя в жизни вообще может быть что-то иное, кроме интересов ребенка. Умом – да; а сердцем?
В сущности, он прав, конечно. Дело не в нас, не в наших чувствах. Что чувства! Однажды она им уже поддалась, закрыла глаза на все – лишь бы поступить по зову сердца. И ведь без тени позерства, чего не было, того не было, была лишь святая убежденность в том, что теперь ее место только там, на фронте, неважно в качестве кого. Как будто Мише это могло чем-то помочь!
Так какое у нее теперь право раздумывать, колебаться... Данечке, конечно же, нужен отец – или хотя бы память об отце, если война не пощадит и его. Нужен, чего же тут не понять. Если бы еще можно было и почувствовать!
Клеве американцы разбомбили в середине октября. Был теплый осенний день с неярким солнцем, Болховитинов только что разметил два очередных орудийных окопа у гребня невысокого травянистого холма, и его рабочая команда взялась за лопаты. Команда состояла из полусотни пригнанных на оборонные работы «хайотов», которых Ридель называл «койоты», и называл метко – юные гитлеровцы и впрямь смахивали на шакалов, были такие же тощие и проворные, к тому же грызлись между собой постоянно, по любому поводу. Но работали споро, в этом смысле с ними было легко.
На большом крестьянском поле у подножья холма – как раз в секторе обстрела сооружаемой здесь противотанковой позиции – шла уборка картофеля. Запряженный битюгами копатель медленно двигался вдоль рядков, фонтанчиком выбрасывая сзади землю и клубни, за ним брели согнувшись люди с корзинами, время от времени относя наполненные к высокой двухколесной фуре. Картина была на редкость мирной, напоминала старый фламандский пейзаж – что-то в духе «мужицкого» Брейгеля.
«Койоты» вдруг загалдели, Болховитинов обернулся, ожидая увидеть опять драку – дрались не далее как вчера, после того как тюрингенцы долго изводили местных, называя их голландскими недоделками, которые и говорят-то не по-немецки, а на обезьяньем наречии, словно унтерменши. Разнимать он их не стал, а просто дождался, пока какому-то «югендфюреру» раскровенили нос, а двух других бросили в канаву с жидкой грязью, после чего скомандовал построение и объявил, что, если они, пораженческое отродье, еще раз позволят себе что-либо подобное – вместо того чтобы честно выполнять порученное им дело, оборудуя позиции для доблестного вермахта, – то они еще увидят. Что именно могут они увидеть, он уточнять не стал, поскольку не знал сам; но угроза подействовала, тюрингенские присмирели. Сейчас они не дрались, а столпились в кучу, показывая на что-то и глядя в одну сторону. Посмотрев туда же, Болховитинов увидел на горизонте плоскую тучу дыма и выше – неторопливо проплывающий справа налево рой едва различимых отсюда самолетиков. Только потом он сообразил, что именно там, за низким лесистым пригорком расположен Клеве.
Туча вспухала и расплывалась на глазах, а рой все кружился и кружился – самолеты заходили с северо-запада и, описав широкую петлю над целью, уходили на юго-запад. В грязном дыму время от времени коротко просвечивали тускло-красные зарницы, но вообще огня не было видно, и лишь иногда доносилось глухое ворчание, как отдаленные раскаты грома. Ветер дул с востока, поэтому бомбежка на таком расстоянии выглядела бесшумной.
Услышав что-то вроде сдавленного вскрика, Болховитинов оглянулся – стоявший с краю парнишка прижимал ко рту кулаки. «Разнюнился, – пренебрежительно объяснил другой, – мутти у него там, подумаешь! У меня вон отец в Польше погиб, а два брата – в России, и то я сопли не распускаю...». Болховитинов, поколебавшись, подошел, положил руку на худое мальчишеское плечо, вздрагивающее под выцветшей форменной рубахой с погончиком.
– Ладно, малыш, – сказал он. – Будь мужчиной, ничего ведь еще не известно! Налет дневной, наверняка успели дать предупредительное оповещение. Давайте, продолжайте работать...
Бомбежка продолжалась минут двадцать, хотя и пяти хватило бы, чтобы не оставить там камня на камне – с таким количеством самолетов. Через два часа туча на горизонте стояла уже в полнеба. К концу рабочего дня приехал на велосипеде Ридель – из Эммериха, куда недавно перебазировалась местная служба ОТ.
– Клеве больше нет, – объявил он. – Не понимаю, что им – бомбы некуда девать? Городишко, в котором вообще не было ни одной фабрики, только госпитали. По ту сторону, похоже, сидят в штабах такие же психопаты, вспомни, что я тебе говорил. Да, бедная вдова, недолго ей довелось наслаждаться свободой...
– Какая еще вдова?
– Ну какая, та самая! Вдова доблестно павшего партайгеноссе. Я все ее утешал. Соединяя, так сказать, приятное с полезным.
– Что, много жертв?
– А как ты думаешь? Хорошо еще, кое-кто успел уже уехать – после Арнема многие думали, что томми не сегодня-завтра ударят прямо сюда. Явно переоценивали боевой пыл британцев.
– Какие указания нам?
– Продолжайте пока здесь, потом видно будет. Возможно, привлекут позже для расчистки, но сейчас там запретная зона – воинская часть занимается спасательными работами. Говорят, много неразорвавшихся бомб – не исключено, что замедленного действия. Не гнать же туда мальчишек!
Их погнали туда через неделю – расчищать подъездные пути, помогать выносить из полуразрушенных домов уцелевшее имущество. Клеве бомбили неприцельно, по площади, поэтому городок превратился в груды щебня – весь и полностью, кроме некоторых окраинных кварталов; там-то и работали, а в самом центре делать было уже нечего, к тому же он стал попросту недоступен без помощи специальной техники. Многие жившие в относительно уцелевших кварталах имели родственников среди окрестных бауэров и теперь переселялись в крестьянские усадьбы со всем спасенным добром. Те, у кого такой возможности не было, уезжали вглубь Германии налегке, взяв лишь чемоданы с самым необходимым; «койоты» помогали и этим, на велосипедах и ручных тележках перевозя их вещи на временную железнодорожную станцию, оборудованную в трех километрах от бывшего города.