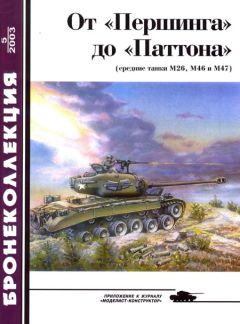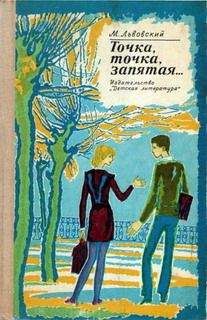— Я дам по ним очередь, господин младший лейтенант, — не выдержал пожилой усатый сержант.
Я не боялся, что сержант откроет по ним стрельбу, он не мог этого сделать без моего разрешения, но беспокоило меня возбуждение немцев, которое я никак не мог себе объяснить. Поэтому я приказал поднять наверх четыре пулемета, расставив их по углам каменного забора, — из них я мог в любую минуту открыть по немцам убийственный огонь. Сам же с бойцами направился в соседний двор, предоставленный нам для постоя… Я забыл сказать, что быков я подарил старосте и ему же поручил повозку с боеприпасами до прибытия наших.
Устроив и накормив коней, мы развели посреди двора костер и уселись вокруг него ужинать. Но не успели мы поднести ко рту и первый кусок, как с соседнего двора раздались выстрелы. Один из наших пулеметов ответил очередью. Схватив автомат, я вскарабкался на стену. Чионка с гранатами последовал за мной. Внизу была невероятная толчея — пленные метались по двору, истошно вопя. Увидев меня, они стали понемногу стихать и наконец замерли, не сводя с меня глаз. Спускающиеся сумерки, затеняя их лица, делали их еще более хмурыми. Неподвижные фигуры в мышино-серых мундирах казались какими-то зловещими тенями.
Но в молчании их и сейчас не чувствовалось покорности. Это была не сдача, это был вызов, сигнал к борьбе.
— Стрелял кто-то из них! — доложил мне часовой. Я резко и громко скомандовал часовым на стене:
— К пулеметам!
Затем, обращаясь к немцам и с трудом сдерживая клокотавшую во мне ярость, крикнул по-немецки:
— Смирно! Если кто шелохнется, пристрелю на месте! Выйти вперед, кто стрелял…
Я знал, это был единственный способ запугать их. Если бы они не выполнили приказа, я бы открыл огонь. Мы не могли себя чувствовать в безопасности, имея ночью у себя под боком эту банду. К счастью, мне не пришлось прибегнуть к крайней мере. Несколько мгновений спустя из толпы вышел, четко отбивая шаг, рыжеволосый краснощекий фельдфебель. Он отнюдь не казался смущенным или запуганным. Более того, он не постеснялся нагло показать мне пистолет, из которого стрелял… «Ах ты сукин сын!» — выругался я про себя. И обращаясь к своим бойцам, за это время вошедшим во двор с автоматами наготове, скомандовал:
— Расстрелять его! — Но одновременно шепнул Чионке: — Скажи, пусть дадут очередь, но не расстреливают.
Фельдфебеля схватили и повели на наш двор. Оттуда через несколько мгновений раздалась короткая очередь. Пленные вздрогнули и застыли на месте.
«Ну, кажется, я достаточно запугал их. До утра хватит», — решил я и собрался уже соскочить со стены, как услышал за своей спиной крик. Ко мне бежал Чионка и молоденький офицерик, которого мы весь день таскали за собой в повозке. Приблизившись к стене и поднявшись на цыпочки, он шепотом сообщил мне, что взятые нами в плен немцы до сих пор ничего не знают о капитуляции, — ему рассказал об этом фельдфебель. Многое стало мне теперь ясным. Я не сомневался, что фельдфебель сказал правду, — об этом говорило поведение пленных. Выходило, что командир не зачитал им приказ о капитуляции; обманом их снял с позиций, обманом гнал их в горы, к границе.
Взбешенный, едва владея собой, я вновь повернулся к толпе и крикнул:
— Командира — ко мне!
Пленные внизу зашевелились и, расступившись, пропустили вперед чернявого, тощего, хилого майора с немного перекошенным лицом и ртом, с хмурыми, неприятно бегающими, пронзительными глазами.
— Я — пленный, — сразу заговорил он нагло, не дожидаясь моего вопроса, — и я не отвечаю за действия фельдфебеля. А потом, — добавил он, горько ухмыльнувшись, — вы нас обезоружили.
Еще минуту, и я бы выстрелил в него, но сдержался и заставил себя сохранить внешнее спокойствие. «Зверь, — подумал я. — Недаром ты похож на Геббельса. Каким низким, подлым нужно быть человеком, какую мерзкую цель преследовать, три дня скрывая от солдат приказ о капитуляции?!» Мое спокойствие вывело его из равновесия. Я видел, что он нервничал, переминаясь с ноги на ногу, хотя и старался не показывать этого и продолжал вызывающе смотреть на меня своими барсучьими глазами. «Погоди, заморыш! — мысленно пригрозил я ему. — Попляшешь сейчас у меня!» И я крикнул громко, чтобы меня услышали немцы, теснящиеся позади него:
— Когда ты получил приказ о капитуляции?
Пленные начали недоуменно перешептываться, но, подняв руку, я заставил их замолчать.
— Вечером восьмого мая, — ответил майор все также нагло.
Толпа беспокойно задвигалась, и по ее рядам опять пробежал шепот.
Я снова успокоил их и приказал майору зачитать приказ.
— Громко, так, чтобы слышали все до единого слова, — подчеркнул я.
Он покорно вынул из планшета бумагу и стал читать. И хотя читал он негромко и проглатывая звуки, слова звучали достаточно четко и внятно, чтобы дойти до ушей собравшихся во дворе. Только раз он запнулся, когда я приказал ему вторично объявить дату прекращения огня. Все же ему пришлось повторить ее отчетливо и громко:
— В полночь с восьмого на девятое мая.
Пленные выслушали приказ молча, затаив дыхание, и еще долго после окончания чтения стояли притихшие, потрясенные. Затем я велел выйти вперед офицерам. Я не решался оставить их с солдатами — они могли какими-нибудь вздорными слухами снова взбудоражить их и толкнуть на безрассудства, которые заставили бы нас применить оружие. Я не хотел этого допустить.
Офицеров, включая майора и подростка с моста, было всего шестеро. Я приказал отвести их на наш двор. Когда я вернулся туда, то увидел их стоящими вплотную у стены под охраной моих бойцов. Они по-прежнему смотрели на нас хмуро, но в глазах большинства уже не было вызова, в них проглядывал страх.
Я попросил хозяина нашей усадьбы уступить нам одну из комнат в его доме и запер в нее всех пленных. Я не мог выделить для их охраны больше одного бойца. Краснощекого фельдфебеля я отослал назад к пленным, чтобы рассеять их тревогу, мы же расположились у огня ужинать.
Хозяин-чех не позволил мне провести ночь на дворе. Он почти насильно привел меня в свою спальню, примыкающую к той комнате, где были заперты немецкие офицеры. Сознаюсь, у меня было сильное искушение лечь раздетым в мягкую, чистую постель, поспать эту ночь так, как спят люди в мирное время. Но я поборол это искушение — война для нас еще не кончилась. Скинув мягкую перину, я растянулся одетый на кровати, сняв только сапоги и расстегнув пояс и китель так, как я привык спать в течение всей войны. И так же, как всегда, положил возле себя автомат, а под подушку сунул пистолет. И Чионка не захотел изменить своей фронтовой привычке — спать поблизости от меня. Несмотря на все мои уговоры отправиться в амбар к остальным бойцам, он, проворчав в ответ что-то нечленораздельное, разостлал у порога двери в комнату офицеров теплое одеяло и улегся на него, по обыкновению подложив под голову вещевой мешок и прижав к груди автомат, ремень которого обернул вокруг правой руки.
Постепенно смолкли вечерние звуки. Умиротворяющая тишина опустилась на дом и село. Я устал, и мне очень хотелось спать. И все же я не мог сомкнуть глаз, хотя и знал, что сон необходим мне для восстановления сил — кто знает, что готовит мне завтрашний день! Окружающая тишина вновь пробудила во мне тревожные мысли. Я никак не мог выкинуть из головы заморыша майора и немецких офицеров, которые скрыли приказ о капитуляции.
Сколько времени намеревались они еще идти? И куда? Действия этих офицеров были для меня так непонятны, казались настолько бессмысленными, безумными, что меня снова охватило отвращение. Я отдавал себе, конечно, отчет в том, что именно фашизм довел их до этого безрассудства и цинизма… «Но в конце концов, — сказал я себе, — одного нашего батальона было бы достаточно, чтобы расправиться с ними в течение получаса! Так на что же они тогда рассчитывали? А может быть, они вообще ни на что не рассчитывали? — ответил я сам себе. — Действовали тупо, бессмысленно, как бессмысленны были и эта война и сам фашизм?»
Я чувствовал, что и Чионка не спал. Он, как и я, все время ворочался.
— Как ты думаешь, — спросил я его, — почему офицеры скрыли приказ о капитуляции?
— А черт их разберет! — ответил он нервно, выдавая тем, что и сам ломал голову над этой загадкой. — Спите, господин младший лейтенант. Скоро утро.
Сам он, однако, никак не мог успокоиться и, уже засыпая, я все еще продолжал слышать его сердитое брюзжание.
— Зверей, вот что сделал из них Гитлер! В камень превратил он их сердца. Один требует справку, чтобы вести собственных солдат в плен… Другой бегает помешанный по покинутым окопам и кричит истерически, что нельзя подпускать большевиков… Третий, еще совсем юнец и именно потому, может быть, сильнее цепляющийся за жизнь, изрешечивает фотографию Гитлера, в которого до того верил, как в бога… А этот заморыш, подлец, продолжает вести людей по пути жестокости и обмана…