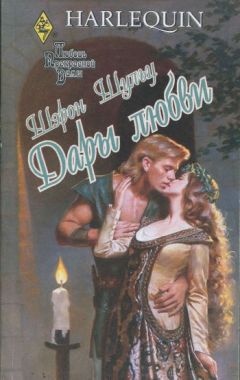— Ты идешь или остаешься? — спросил он.
— Иду.
— Я тоже! Но могу ли я, дражайшая, пройтись хоть несколько шагов в вашем прелестном обществе? О, благодарю! Господи, ты слышишь, она сказала: “Да!” Она согласна! Deo gratias![3]
Он развел руками и набожно возвел очи горе. Мари-Те схватила его за рукав и потащила к выходу.
— Ладно уж, притвора!
Они вышли из университета. Часы на ратуше пробили половину десятого. Пушистый снег свободно падал с тяжелых туч, проплывавших над крышами домов, ватные тучи, казалось, вбирали в себя звон часов.
— Что тебя привело сюда в такую рань, мой друг? Насколько я знаю, у тебя нет лекций, — спросил Жюль Грак.
— Встреча с мэтром, — многозначительно сказала она.
— Вот оно что!
— Хотела узнать его мнение о своей писанине.
— Ты пытаешься писать?
— Пустяки. Очерк из истории Оверни.
— Здорово! И что же он сказал?
— А тебя это действительно интересует?
— Разумеется, малышка.
— Он внимательно читал ее на протяжении сорока пяти минут и…
— И?
— …и сказал дословно так: “Много недостатков в композиции, расплывчато. Но в целом события освещены правильно и оценены с точки зрения истории верно”.
— Поздравляю! Услышать от мэтра такое, знаешь…
— Он считает выводы, — я снова цитирую, — энергичными, поражающими смелостью стиля и метафор.
Жюль Грак удивленно присвистнул. Мари-Те нетерпеливо ударила его ладошкой по руке и продолжала:
— Но, должна сказать, он тут же добавил: “Вы часто затемняете текст без особой нужды и тяготеете к высокопарным выражениям. Настоятельно советую: избегайте периодов, делайте фразы короче”.
— Иначе говоря, поменьше воды. Послушай, а он сейчас при тебе, этот шедевр современной исторической мысли?
— Да.
— Я хотел бы ознакомиться с ним.
— Хорошо, но с одним условием: ты мне возвратишь его в субботу. В воскресенье я хочу поработать над ним.
— А я уже решил никогда с ним не расставаться!
Она открыла сумочку it протянула рукопись Жюлю, он бережно спрятал ее в бездонный карман своей потрепанной канадской куртки.
— Спасибо, Мари-Те.
Некоторое время они шли молча. На перекрестке бульвара Карно и улицы Бонсак их окликнул общий шапочный знакомый.
— Привет молодняку!
— Привет, Даннери.
Они свернули на улицу Бонсак, демонстративно прибавив шагу, но рыжий догнал их и начал самодовольно и уверенно распространяться о мировых событиях, о театре военных действий, неутомимо жестикулируя, как будто это он сам разрабатывал планы генеральных штабов. Он тарахтел без умолку, как пулемет, ведущий неприцельный огонь.
Разъяренный Жюль Грак искал предлога, чтобы избавиться от этого воинственного типа. И неожиданно выкрикнул, соглашаясь со своим неумолкающим собеседником:
— Конечно, но это не что иное, как наследие войны!
Рыжий ошеломленно вытаращился на него.
— Что? Какой войны?
Жюль Грак ждал этого вопроса.
— Последняя война империи, разумеется. Я сын генерала Камброна и чихать хотел на тебя!
Проговорив это, он взял за руку Мари-Те, и они покинули обескураженного воинственного крикуна.
— Ну и тип, ну и мерзость! — Жюль Грак задыхался от ненависти. — Ничтожество, паразит, паску…
Мари-Те прервала его:
— Я согласна с тобой, Гай, успокойся.
— Пусть только осмелится хоть слово сказать! Я из его глупой башки кисель сделаю! Этот недоносок живет с черного рынка. Кому война, а ему мать родна. Он умудряется получать прибыль со всего: за масло дерет по триста пятьдесят франков за килограмм, за вино — по тринадцати франков за литр, за сахарин — по двести пятьдесят франков за сотню таблеток… Кажется, он еще и кожу поставляет бошам. Тоже мне, записался на медицинский факультет! Да он способен утащить из анатомички внутренности покойника и продать их торговцам требухой!
— Все это так, дружок. Нынче ученик колледжа предлагает своему директору шелковую рубашку из довоенных запасов в обмен на спирт. А потом делает из него ликер и меняет его на сигареты.
— Это говорит о том, что твой ученик такой же негодяй, как и тот рыжий паразит.
— А что поделаешь с этим? Если хочешь кусок жареной свинины, то, будь добр, сначала продай серебряные подсвечники тетушки Агаты. Оставим это, теперь все достают продукты на черном рынке.
Жюль Грак горько засмеялся.
— Просто великолепно! Ты забываешь только об одном. Когда французы живут с черного рынка, то различай тех, которые идут на это, чтобы не умереть с голоду. А я говорю о тех, кто обогащается на этом.
— Ты думаешь, рыжий обогащается?
— Уверен. Он не аферист, он — гангстер. Видела, как вырядился? Деревянные подошвы не для него! А его одежда? Это не дерюга, уверяю тебя. Нет, не бери под защиту таких мерзавцев.
— И не подумаю, дорогой Гай. У меня своих дел по горло. Жюль Грак положил руку на ее плечо.
“Что за девушка, бог ты мой! Наивная, чистая и в то же время такая хорошенькая!”
Он ощутил под рукой мягкий мех ее шубки, несмело погладил волосы. В голове мелькнула давняя мысль, которая не давала ему покоя. А почему бы и нет? Даже если она откажется, не выдаст же она его?
— Ты смогла бы выполнить одно поручение для движения Сопротивления, Мари-Те?
Она взглянула на него и помедлила с ответом. Что это он — серьезно или дурачится? Никогда не поймешь, где у него шутки кончаются.
Они подошли к площади Далиль. Мимо прогрохотал трамвай, обдав их талым снегом. Из-под дуги брызнули искры, промелькнуло лицо водителя, вытиравшего запотевшее стекло.
Жюль Грак почувствовал ее нерешительность.
— Я говорю совершенно серьезно. Тебе нужны доказательства? Хорошо! Что ты подумала о газете, которую нашла однажды в кармане своего пальто?
— “Овернский патриот”?
— Да.
— Так это ты…
— Ты удивительно сообразительная!
— Ты в организации Сопротивления?
— Телом и душой. Я отвечаю за редактирование, печатание и распространение этой газеты, за все пропагандистские материалы.
Она все еще не решалась. Жюль начал нервничать.
— О боже! Какие тебе нужны доказательства?
— Все, конечно, так, но…
— Но… что “но”? Никаких “но”! Я — участник движения Сопротивления и предлагаю тебе сотрудничать с нами. Ты можешь согласиться или отказаться.
Неожиданно для себя они очутились перед зданием вишистской полиции. Из-под арки подъезда из розового и черного гранита, припорошенного снегом, на них смотрел часовой в голубом. плаще, с автоматом через плечо. Заметив часового, Жюль Грак потащил Мари-Те на проезжую часть улицы: они перебежали дорогу и остановились на площади.
— Ну так как?
— Я бы хотела быть полезной вам.
— Но ты должна знать, что это очень рискованно. В случае чего — арест, тюрьма, а то и смерть.
— Знаю.
— А как твой старик?
— Я всегда делаю так, как нахожу нужным.
— Ты все ему рассказываешь?
— Нет.
— Ты все продумала?
— Все продумала! Отец читает их газетку “Будущее” и любит Вагнера. Полностью лояльный гражданин. А это нам на руку?
— Безусловно.
— Подозревать его могут скорее участники Сопротивления, чем боши.
— А теперь слушай, что от тебя требуется. Уже сегодня. Ты свободна после обеда?
— Но ведь меня еще никто…
Он усмехнулся. Знал, о чем она хотела спросить, и опередил ее с ласковой иронией:
— Нет, Мари-Те, присягу принимать перед ареопагом старейшин тебе не придется, и посвящения в рыцари не будет. Ты согласна, и этого достаточно: отныне ты участник движения Сопротивления. Сейчас, с этой минуты.
И добавил уже совершенно серьезно:
— Мы никого не принуждаем, понимаешь? Каждый, кто привел в организацию своего знакомого, головой отвечает за него.
— Я понимаю.
— У тебя нет на примете никого, кто помог бы нам разместить подпольную типографию? Нам нужно изолированное помещение или сарай в безлюдном уголке. Не знаешь ничего такого?
— Знаю.
— Люди надежные?
— Это у меня дома.
— У тебя? А твой отец?
— В нашем саду есть сарай, он расположен далеко за домом в глубине двора. После смерти садовника к сараю никто и не подходил. Даже отец. Правда, двери там не запираются, но мы можем навесить замок.
— Роскошно! А на машинке стучать ты можешь?
— Немного.
— А с гектографом не приходилось иметь дела?
— Нет, но я научусь.
— В сарай можно пройти так, чтобы отец не заметил?
— Нет, но в пять часов он уходит по вызовам и раньше чем в половине девятого не возвращается.
— Больше никого нет в доме?
— Нет. Наша уборщица и кухарка мадам Тьери уезжает сразу же после пяти, ужин я готовлю сама.
— А в случае необходимости ты сможешь перепечатать и размножить материал между пятью и восемью часами?