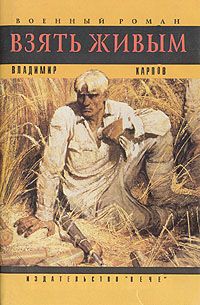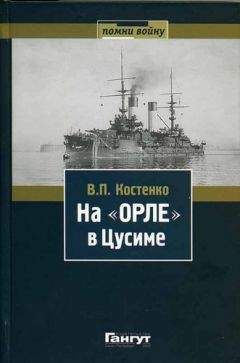Александр Петрович был на сей счет иного мнения:
— Ну это ты напрасно. Юре служба сейчас просто необходима. Я тоже служил, знаю…
— Тогда была война! Тогда все служили!
В общем, профессор ничего не предпринял, да и не мог сделать — Юра поехал служить. Угодил он в Туркестанский военный округ, в жаркие пески, чем еще прибавил страдания безмерно любящей матери. Она видела его умирающим от жажды, представляла, как кусали его фаланги и скорпионы, жалили ядовитые змеи, как голодал и худел он от непривычной солдатской пищи, чах непомытый, неухоженный, мучимый грубыми офицерами. Но прошло больше года, письма приходили регулярно, чаще веселые, и мать постепенно успокоилась. А потом, хоть и не говорила об этом мужу, соглашалась с ним в душе: армия действительно может повлиять на Юрика благотворно — от грубости не осталось и следа. Вот и это письмо начинается теплыми, ласковыми словами: «Дорогие мама и папа…» Ирина Аркадьевна углубилась в чтение, и вдруг брови ее надломились, она сначала тихо (ей не хватало воздуха), потом все громче и громче начала вскрикивать:
— Юра, мальчик мой… умирает!
Александр Петрович подбежал, когда письмо уже лежало на полу, а жена, бледная, откинувшись на спинку кресла, как в бреду повторяла:
— Ранен… Юрочка… Он погибает.
Александр Петрович быстро схватил и прочитал письмо. Поняв наконец, что произошло, он стал приводить в чувство жену:
— Ира, успокойся. Почему ты говоришь — умирает? Он сам написал это письмо. Он легко ранен. Ты разве не поняла — он гордится этим. Солдат ранен, ты не уловила его интонации.
Ирина Аркадьевна решительно поднялась:
— Мы немедленно летим туда!
Она побежала в спальню, сняла со шкафа чемодан и принялась бросать в него одежду — свою и мужа. Бросала быстро, плохо соображая, что и для чего собирает.
Александр Петрович еще раз пробежал глазами письмо и совсем уже спокойно сказал:
— Нет надобности туда лететь. К тому же у меня доклад…
Жена перебила его:
— Я полечу одна.
— Может быть, запросим молнией?
Но остановить Ирину Аркадьевну было невозможно. Понимая и щадя жену, Александр Петрович сказал:
— Ну хорошо, лети, а я после доклада — вслед за тобой.
Ирина Аркадьевна подошла к письменному столу, достала из верхнего ящика паспорт и деньги. Забыв о чемодане, побежала в прихожую к вешалке. Муж молча шел за ней. Потом они быстро спустились по лестнице. Александр Петрович вышел на обочину дороги, махал проезжающим такси. Когда одна «Волга» остановилась, Ирина Аркадьевна подбежала к шоферу:
— Умоляю, в аэропорт, быстрее.
Машина была свободна, за лобовым стеклом горел зеленый глазок. Пожилой шофер понял: люди очень расстроены.
— Пожалуйста, садитесь. Мигом доставлю. — Он действительно мчал Ирину Аркадьевну, будто сидел за рулем «пожарки» или «скорой помощи». Александр Петрович не мог проводить жену — он опаздывал.
Дежурный по аэропорту, узнав о случившемся, помог заплаканной женщине. Он сам вывел Ирину Аркадьевну к самолету, на который шла посадка, отобрал билет у последнего пассажира, уже ступившего на трап. И когда пассажир начал было возмущаться, дежурный кивком головы показал ему на распухшее от слез лицо Ирины Аркадьевны:
— У женщины большое горе. Я вас отправлю следующим рейсом.
Пассажир смирился.
У Ирины Аркадьевны что–то дрожало в груди, не от вибрации летящего самолета, а от охватившего ее отчаяния. Ей казалось, что она не застанет Юру живым. Самолет летел ужасно медленно. Когда стюардесса в информации о полете сказала, что летят они со скоростью восемьсот километров в час, Ирина Аркадьевна мысленно ругнула Аэрофлот за такие допотопные скорости. Ей хотелось лететь со скоростью звука или даже света, только бы поскорее увидеть, защитить от беды сына!
Часа через два Ирина Аркадьевна утомилась от большого внутреннего напряжения. Стремление к немедленному действию сменилось покорным ожиданием. Мягкий гул двигателей приглушал все звуки в салоне, рядом было много людей, но не было слышно, о чем они переговаривались. Ирина Аркадьевна не то задремала, не то погрузилась в далекие воспоминания. Она перебирала те дни, когда Юрочка существовал еще в ее разговорах с Александром Петровичем: ребенок еще не родился, а они уже определяли, каким он будет. Сын должен стать наследником научных трудов отца и даже превзойти его и засиять на научном небосклоне крупнейшей звездой.
В круглом иллюминаторе самолета Ирина Аркадьевна видела нечто похожее на свои думы: вдали небосвод светился ярким бирюзовым светом, это было похоже на радужные мечтания о будущем сыне, затем от этого сияния летело навстречу множество беленьких легких облачков, подрумяненных отблеском небосвода, — это напоминало Юрочкино детство — шаловливое, веселое, а вплотную к самолету, как сегодняшняя беда, подступали уродливые громадины туч, с темными боками и зловещей чернотой в середине.
Рос Юрочка здоровым говорливым мальчиком. Как и все дети, он задавал много вопросов, был обыкновенным «почемучкой», вступающим в незнакомый мир человеческого бытия. Однако в представлении Ирины Аркадьевны, в ее мечтах он сформировался ребенком необыкновенным, и вопросы Юрочки, поступки его в глазах матери выглядели несколько иначе, чем были в действительности. Если Юра, листая книжечку, спросил, как человек получился из обезьяны, то этот вопрос в пересказе Ирины Аркадьевны мужу и знакомым как–то сам собой превращался в рассуждение и выглядел уже так: «Мама, я понимаю, человек произошел от обезьяны, но почему некоторые обезьяны не захотели стать людьми?»
Александр Петрович иногда спрашивал жену: «А не выдумываешь ты Юрочку?» Она искренне удивлялась и даже обижалась таким вопросом. И если в глубине души все же понимала: муж прав, — то все равно внушала сама себе: «И я тоже права — ребенка надо приучить к мысли, что он умный, особенный».
Все шло, как хотелось Ирине Аркадьевне и дома, и в школе Юра слыл очень способным мальчиком. Какой–нибудь конкретной талантливости он не проявлял, но, поняв, за что его считают необыкновенным, Юра умышленно оригинальничал. Причем он уловил одну тонкость: если нет умных мыслей, то достаточно ставить какие–нибудь заковыристые вопросы, и это тоже создает очень эффектное впечатление. Потом он обнаружил, что люди хорошо знают какую–то свою конкретную работу и то, что к ней близко примыкает, а достаточно заговорить с папиным знакомым, физиком, о дневниках Пушкина, привести из этого дневника одну фразу, как тот сразу станет в тупик, поражаясь эрудиции Голубева–младшего. А если филологу, бывшему маминому однокурснику по пединституту, завернуть что–то о строении атомного ядра, филолог будет всем говорить: «Юрочка феномен!»
Юра много читал, но делал это поверхностно, не вникая в суть проблем, а исходя из тайного желания уловить, а потом и удивить собеседников знанием чего–то оригинального, им неведомого.
Александр Петрович попытался вовлечь сына в настоящее познание элементарных основ физики, но обнаружил в Юрочке полное отсутствие желания трудиться, какую–то удивительную поверхностность, отвращение к усидчивости. Решив, что Юрочке еще рано заниматься серьезной наукой, что он не созрел пока для этого, отец оставил сына в покое, доверив его воспитание матери — ее педагогического института на этой стадии вполне достаточно.
Все шло хорошо у Юры до тринадцати лет. Ирина Аркадьевна и сейчас не знала, что же произошло с сыном в том роковом году. Он перестал учиться. Школу посещал, но совершенно не занимался дома и, как заявила классная руководительница, не занимался в школе. Теперь он ходил в класс развлекаться, встретиться с ребятами, девчонками, потрепаться, похохмить, отколоть какой–нибудь номер. Он стал циничен, груб, жил какой–то свой непонятной и страшной для матери жизнью, где–то пропадал до позднего вечера, приходил зеленый от курева, раздражительный, не терпящий никаких расспросов.
До поры Ирина Аркадьевна скрывала все это от мужа — у него было много работы, не хотелось его беспокоить, думала, пройдет это с сыном. Но дело не поправлялось, да и сам Александр Петрович замечал, как изменилось поведение сына. В доме появилась гитара, радиоприемник и магнитофон не умолкали в Юриной комнате. Однажды отец спросил Юрия, когда тот пришел домой после двенадцати: «Не кажется ли тебе, молодой человек, что ты зашел слишком далеко?» Юра коротко бросил: «Нет, не кажется» — и ушел в свою комнату.
Потом вдруг обнаружилось, что Юра поэт, все заговорили о его стихах и песенках. Причем дома об этом узнали как о свершившемся. Оказывается, у Юры уже была слава поэта не только в школе, но и в «ближайших окрестностях, а мать и отец об этом только узнали!
Юра не только сам превращался в инфантильного, наглого бездельника, он притягивал к себе других, создал целую, как он называл, «шарагу» из школьных ребят. Они вечерами сидели во дворе, в чахлом садике, пропахшем собачьей мочой, с гитарой и то тихо, нечленораздельно ныли под ленивый перебор струн, то ржали, как пещерные обитатели, не давая покоя всему дому.