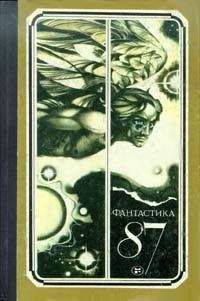– Запакостили… Гляди, канал-то ствола как отхожее место. Зачем таскали мой примус-то в бой? Чо, своих мало?
– А ты соображаешь, что тут вчера было? – со злостью ответил Галанин.
– Оставь его, Саша, – пренебрежительно сказал Аркадий, – видишь, студент в расстроенных чувствах. Никак не может привыкнуть, шё на войне стреляют.
Саша, ворча, принялся чистить пулемет.
Аркадий с торжественным видом выгрузил из карманов свои ленинградские покупки и крикнул:
– Галанин!
– Я! – отозвался студент.
– Получай бритвы.
– Спасибо, – буркнул Галанин.
– Шапошников!
Молчание. Потом чей-то голос:
– Убит вчера.
– Шапиро! – выкрикнул Аркадий как ни в чем не бывало.
– В госпитале. Ранен вчера.
Аркадий нахмурился. Потом не очень уверенным голосом:
– Кожевников!
Кожевников протянул руку и получил свои подворотнички.
– Тарасовский!
– Убит вчера.
Аркадий замолчал. Потом он сказал:
– Видать, вчера горячо было?
– Да. Баня…
Аркадий помотал головой.
– Так. Тут, значит, люди потели, а мы с тобой, Саша в убежище с девчонкой прохлаждались.
– 'у тебя девчата завелись, Аркадий? – спросил кто-то.
– У меня? Куды мне! Это у нашего красавчика Саши невеста в Ленинграде.
– Да ну? – закричали в траве – Хороша девушка?
Саша, сидя за пулеметом, застенчиво улыбнулся.
– Ничего. Все на месте. Только… – Аркадий кинул лукавый взгляд на Сашу и очень смешно, в лицах, изобразил, как Саша всю дорогу хвастал своей невестой, а когда они пришли к ней, она его не узнала, и Саша якобы бил себя кулаками в грудь и кричал: «Это я! Это же я, ваш Саша-с-Уралмаша!»
– Ну, в общем, я вижу – Сашина невеста на него нуль внимания, в общем, тот случай…
– Трепаться-то брось, – прервал его Саша.
В тихом голосе гиганта было что-то такое, что заставило Аркадия на секунду замолчать. Но рассказ получался как будто забавный, кое-кто засмеялся, и Аркадию жаль было расстаться с успехом.
Он продолжал в своем обычном тоне издевательских рассказов о Саше. Но странно: чем больше Аркадий изощрялся в придумывании смешных и унижающих Сашу подробностей, тем, чувствовал он, слушатели все больше охладевали к его рассказу. Некоторые вставали и уходили.
Он закончил рассказ среди молчания. Гладышев презрительно плюнул и отошел. В общем, провал.
Аркадий надменно пожал плечами и кинул как бы случайный взгляд в сторону Саши. Отлично вычищенный и смазанный пулемет стоял под деревом, но самого Саши не было. Аркадий поискал его глазами. Он увидел Сашу вдали. Своим тяжелым, развалистым шагом гигант удалялся в лес. Голова его и плечи были опущены, что-то скорбное почудилось Аркадию во всей его фигуре, и ему захотелось броситься вслед за Сашей и сказать ему что-нибудь сердечное, товарищеское.
Но кругом стояли люди, и Аркадий засвистал «Махну в Анапу я» и дружески подхватил под руку Галанина, который во всей роте был самым восторженным его поклонником.
Галанин сказал:
– Прости меня, милый, что я вмешиваюсь… но на твоем месте я пошел бы и извинился перед Сашей.
– Иди ты со своими советами знаешь куды? – гневно закричал Аркадий.
Он оттолкнул студента и спустился в землянку для пулеметчиков.
Здесь он вынул из вещевого мешка мандолину и заботливо обтер ее куском замши, который хранил специально для этого. Он натянул на мандолину новые струны, привезенные из Ленинграда. Потом он вынул из кармана маленький камертон и ударил им о край нары, и земляная дыра наполнилась широким, вибрирующим и сладким звуком «lа». Аркадий тщательно настроил мандолину. Все время при этом на его лице сохранялось сердитое и вызывающее выражение. Потом он ударил по струнам черепаховой косточкой и запел.
Никогда еще не пел он так хорошо. Откуда брались в его скрипучем голосе эта мягкость и завлекательность? Бойцы кучками скапливались возле землянки и слушали. Он пел о друзьях и о девушках, о дальних странствованиях и о прекрасной Одессе. Он пел грустные и залихватские песни портовых грузчиков. «Грубая спина у меня позади, грубое лицо у меня впереди, и нежное сердце в груди…» Казалось, он призывал кого-то и умолял о чем-то, и вслед за ним повторяла эти мольбы мандолина своим дрожащим, детским, серебряным голосом.
Саша вышел из лесу. Проходя мимо землянки, он остановился. Бойцы посмотрели на него. Гигант насупился и пошел прочь не останавливаясь, словно звуки мандолины гнали его все дальше и дальше. Он разыскал среди деревьев палатку политрука Масальского и попросил разрешения войти.
Масальский высунул свою красную физиономию и воскликнул:
– А, товарищ Свинцов! Входите, родной, садитесь. Ну, что у вас?
Они говорили долго. Масальский изумленно восклицал и что-то горячо доказывал Саше. А Саша в ответ упрямо бубнил, и в конце концов Масальский сказал:
– Ну ладно, пусть будет по-вашему, но я огорчен, право, огорчен.
Поевши, люди легли спать, чтобы отдохнуть после вчерашнего боя. День прошел тихо, ни артиллерии, ни самолетов. Но всем – от командующего фронтом до последнего коновода в обозе – было ясно, что с рассветом фон Лееб повторит свой вчерашний натиск на Ленинград. Но где пройдет линия главного удара? Может быть, через нас?
Перед закатом дневальные разбудили людей. Ночью поте предстояло выдвинуться вперед. Отделенные командиры вскрыли ящики с боеприпасами. Началась раздача гранат, патронов. Прибыли саперы. Лейтенант Рудой отправил' их вперед для устройства окопов и заграждений. Он сам вычертил на бумажке профиль окопа и попросил командира саперов сделать окоп по этому рисунку.
– Да вы не беспокойтесь, сделаем по-хозяйски, – сказал молоденький саперный лейтенант в пилотке, лихо заломленной на ухо, и. сунул чертежик в карман. – Ну, так мы пошли. В случае чего, мы там маленько пощиплем фрицев.
– Ни в коем случае! Я вам запрещаю обнаруживать себя, – вскричал лейтенант Рудой.
Он с беспокойством посмотрел вслед удалявшимся саперам. Этот удалой лейтенант напомнил Рудому его самого, каким он был всего полтора месяца назад. И вскоре, не выдержав, Рудой побежал на передний край проверить, как там обстоит дело у саперов. Кстати, он захватил с собой отряд истребителей танков, чтобы заблаговременно расположить их в нужных местах.
Вообще хлопот было по горло, как всегда перед крупной операцией. Особенно когда начали прибывать пополнения. И поэтому никто в первом взводе не обратил внимания на необыкновенные перемены, произошедшие в составе пулеметных расчетов. К Аркадию явился боец Четвертаков и заявил, что он назначен вторым номером вместо бойца Свинцова.
– Ты? – сказал изумленный Аркадий. – А шё такое с Сашей?
– А он зачислен вторым номером на пулемет Окулиты, – сказал Четвертаков и добавил: – Согласно личной просьбе. Где пулемет-то? Как у вас диски? Не заедают?
Аркадий молча смотрел на Четвертакова. Казалось, от изумления он лишился дара речи. Наконец он вымолвил:
– Такое нахальство…
– Чего? – сказал Четвертаков.
Лицо Аркадия приняло обычное свое насмешливое и слегка надменное выражение.
– Дружочек Четвертаков, – сказал он, – возьми примус, вон он, в углу, и, будь другом, проверь его. Этот раззява Свинцов мог оставить его грязным. И вообще ему навоз таскать, а не на пулемете работать.
Вот и все о том, как разошлась дружба, самая крепкая во всей роте.
Саша не сказал и этого. Молча копался он в пулеметном хозяйстве Окулиты.
Любопытный Окулита приставал к нему с вопросами:
– А шо ж такое зробилось промеж вас? Двох таких корешков, як ты и Дзюбин, а?
– Щелочи у тебя маловато, – сказал Саша и принялся надраивать пулемет, и без того сиявший чистотой.
* * *
Пополнения прибывали маленькими партиями, но беспрерывно. Тут были и военные моряки из Балтфлота, посматривавшие несколько покровительственно на пехоту, и свои ребята, вернувшиеся из госпиталей, и ленинградские курсанты, и кадровики из сибирских и уральских частей. Весь этот народ надо было довооружить, накормить, проинструктировать, распределить по подразделениям.
Политрук Масальский совсем сбился с ног. У него не хватало агитаторов для политбесед с новоприбывшими, хотя он мобилизовал для этого всех мало-мальски толковых ребят в роте. Отряд балтийцев уже полчаса дожидался беседчика. Моряки сидели под соснами на шинелях, которые они только что получили. Некоторые пришивали к рукаву эмблемы якоря, чтобы все-таки как-нибудь сохранить свою морскую особенность среди серошинельной армейской массы.
Взгляд политрука упал на Аркадия, который стоял подле своей землянки, с независимым видом покуривая папироску и наблюдая предбоевую сутолоку. Аркадий вытянулся и откозырнул, щеголяя выправкой бывалого служаки.
Масальский продолжал молча созерцать Аркадия, упершись в него изучающим взглядом, и Аркадий уже начал обиженно поднимать брови.