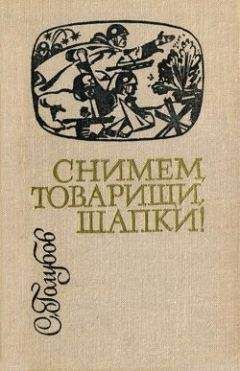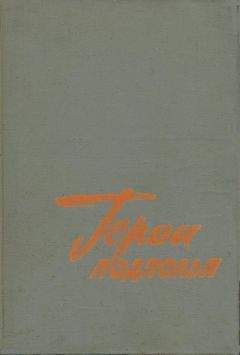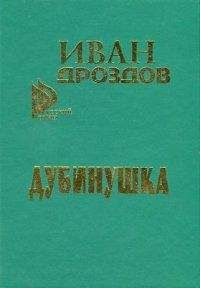Я сбежал, даже не взяв расчета…
А объявление в Кенигсберге: «Сдается комната, только не русским». Мой квартирный хозяин, кондуктор трамвая, с длинными усами, закрученными кверху, походил на императора Вильгельма, портрет которого висел у него в комнате. На противоположной стене находился небольшой портрет Карла Маркса. Хозяин, заметив мое недоумение, пояснил с усмешкой, что он — социал-демократ и Маркс принадлежит ему, а кайзер — это жене.
— Мы, немцы, любим порядок. У нас всему есть свое место.
У них действительно было место всему, кроме человечности. Этот бездушный, автоматический порядок так замучил меня, что я решил вернуться в Россию: каторга, и та лучше!
…И вот немцы пришли к нам устанавливать свой «новый порядок»! Как победители, как хозяева идут они по нашей земле.
В эту минуту я не на шутку испугался, что у меня нехватит силы жить рядом с ними. Я покосился на Клеру, на Ларчика: они ведь немцев еще не знают.
Мне казалось тогда, что я уже все знаю о немцах.
— Гостей встречаете? — раздался позади нас тихий голос.
Я вздрогнул от неожиданности. Оглянувшись, увидел Василия. Глаза его были воспалены от бессонных ночей. Плотная, коренастая фигура как-то съежилась, согнулась. Серое, землистое лицо, измазанные грязью одежда и вещевой мешок сразу выдавали бойца.
— А ты почему остался? — изумленно спросил Ларчик.
— Не успел эвакуироваться. Всю ночь протолкался на переправе, ничего не вышло.
— Много народа осталось?
— Нет. И я бы уехал, налетел немецкий самолет и начал бомбить. Мы не успели сесть. Катер отчалил.
— Немцы идут! — волновался Ларчик. — Прячься скорей!
— Да куда теперь спрячешься? — Василий растерянно оглянулся. — Найдут, хуже будет.
— Иди во двор, — подтолкнул я Василия, — переоденься скорей и займись чем-нибудь по хозяйству.
— Ступай, ступай, Вася! — Ларчик плотно прикрыл за ним калитку и добавил озлобленно: — Вот, зараза, до чего дожили!
— А ты разве не военнообязанный? — спросил я у Ларчика.
— Нет, освободили. У меня глаза больные и ревматизм замучил.
В одиночку и звеньями пролетали к морю вражеские самолеты. Доносились глухие взрывы. Дымилась догорающая мельница. В городе было совершенно тихо, как на кладбище. И в этой страшной тишине появились первые немцы.
Один за другим они перебегали площадь по направлению к нашей улице.
— Пойдемте и мы во двор, — нерешительно сказал Ларчик.
Мы вошли во двор. Переодетый Василий пилил со своей женой какие-то гнилые доски.
Как долго длились эти последние минуты тишины! Вот за воротами раздался топот кованых сапог. Калитка с шумом распахнулась, и два немецких солдата с автоматами вбежали во двор. За ними — еще пятеро. Один торопливо устанавливал в раскрытой калитке ручной пулемет, другие начали обыскивать огород и двор.
— Зольдат, партизан зинд да? — сердито крикнул немец с нашивками на рукаве.
Я отрицательно потряс головой:
— Нет, нет!
В это время солдат позвал немца с нашивками на огород, к щели. Немец бросился туда и, заглянув в щель, закричал:
— Партизан! Вег, вег!
Клава еле-еле выбралась из убежища.
— Партизан, партизан! — немец направил на нее револьвер.
Клава повалилась на землю и, загораживая лицо дрожащими руками, повторяла хриплым голосом:
— Что вы, что вы! Господь с вами. Я женщина, я бомбы боюсь…
Ударив Клаву носком сапога, немец заставил ее встать. Она вскочила и побежала к нам. Немец выстрелил, промахнулся и погнался за Клавой.
— Она сумасшедшая! — не выдержав, крикнул я по-немецки.
Клава подбежала к нам и упала.
— Она сошла с ума от бомбежки, — повторил я. — Она все время сидит в щели.
Было похоже, что Клава действительно потеряла рассудок. Валяясь по земле, она громко рыдала, повторяя: «Убьют, господи, убьют!»
Немцы засмеялись.
— Молчи! — прикрикнул немец с нашивками, ткнув ее сапогом в бок. — Откуда вы знаете по-немецки? — спросил он меня.
— Я был в Германии.
— Это хорошо. Сделайте нам яичницу.
Я перевел Ларчику. Тот испуганно пожал плечами: — Нет яиц. У меня две курицы, но они не несутся.
Ответ Ларчика обозлил немца. Он потребовал зажарить курицу. Ларчик поймал пеструю хохлатку и, свернув ей голову, передал жене Василия.
Скоро во двор зашел еще один солдат и передал немцу с нашивками приказ немедленно итти дальше. Солдаты захватили с собой недощипанную курицу и ушли.
— Ну вот, мы и познакомились, — сказал я.
— Я думал, Клаву убьют, — отозвался Василий, вытирая с лица пот.
— Больше в щель не ходите, плохо может кончиться, — посоветовал я Клаве.
Она ничего не ответила, с трудом поднялась с земли и, шатаясь, пошла домой.
Убедившись, что советские войска ушли, немцы, как саранча, хлынули в город. Они заняли самые лучшие квартиры. Домовладельцам и жильцам в лучшем случае было разрешено жить в сенях и сараях. В нашем районе разместился полк СС. Начался грабеж. Тащили кур, гусей, часы, одежду — все, что попадалось под руку.
Зашли и к нам два молодых немца в грязных потрепанных куртках. Почесываясь и не обращая на нас никакого внимания, они молча прошли к шкафу и начали вытаскивать оттуда продукты.
— Что вы ищете? — спокойно спросил я их по-немецки.
Солдаты сразу повернулись ко мне и растерянно забормотали:
— Вы немец?
Я взглянул на сахар, который солдат держал в руках, и, сделав вид, что не расслышал их вопроса, продолжал:
— Хотите чай пить? Пожалуйста, садитесь за стол. Хозяйка вас угостит.
Солдаты переглянулись, сунули обратно в шкаф взятые ими продукты, сели за стол, обшаривая комнату глазами. Особенно быстро бегали колкие, злые глаза худощавого небольшого солдата, который потом назвался Максом.
— Лида, — сказал я Лидии Николаевне, — дай нам чаю и чего-нибудь закусить.
— Вы немец? — повторил солдат.
— Нет, я русский, но долго жил в Германии. Это моя жена, — указал я на Лидию Николаевну, — и дочка Клера.
Видимо, немцы не могли понять, кто я такой, и на всякий случай, из предосторожности, вели себя сдержанно. Лидия Николаевна и Клера подали чай, закуску и сели с нами за стол. Увидев патефон, солдат спросил, можно ли сыграть.
— Можно. Клера, заведи что-нибудь веселое.
— У вас хорошо, мы поселим к вам нашего командира, — сказал Макс, поглядывая колкими глазами на Клеру.
У меня мелькнула мысль, что они затевают что-то недоброе по отношению к девушке, и я испугался.
— Ну что вы! Вы же видите, какая у меня маленькая комната, а у меня жена, дочь. Куда же мы денем вашего командира?
— Ничего, для него найдете место, — жестко ответил Макс.
Солдаты ушли, оставив меня в смятении. Я поделился с Лидией Николаевной.
— Вот сволочи! Что же нам делать? — спросила та.
— Нужно как-то выкручиваться.
Вечером Макс привел обер-ефрейтора. Огромный, широкоплечий детина лет тридцати со свирепым лицом и водянистыми глазами сразу напомнил мне кенигсбергского кондуктора. Только у того усы были закручены кверху, под Вильгельма, а у этого — маленькие, рыжие, подстрижены под Гитлера. На рукаве куртки — фашистская свастика, на груди — железный крест. Он был чисто выбрит и даже надушен.
Не здороваясь, он прошел прямо к столу, грузно уселся, приказал солдату тоже сесть и начал меня допрашивать.
Я рассказал, что в прошлом имел столярную мастерскую, потом был раскулачен и выслан в Сибирь. Там работал в артели завхозом и за кражу осужден на три года. В Керчи работал в Рыбакколхозсоюзе. Там узнали, что сидел в тюрьме, уволили, хотели опять судить, но они, немцы, так сильно бомбили Керчь, что большевикам ехало не до меня.
Пасмурное лицо ефрейтора прояснилось.
— Откуда вы знаете немецкий язык?
— Я был в Германии.
— Как туда попали?
— В прошлую войну попал к вам в плен. Я под Тильзитом у фермера работал. Там и вашу культуру и порядки узнал. Ваш кофе и бутерброды мне на всю жизнь запомнились.
Немец самодовольно засмеялся:
— О да! Мы любим кофе.
Лидия Николаевна поставила на стол две бутылки вина, закуску. Клера попросила разрешения завести патефон. Немцы ели с большим аппетитом. Ефрейтору очень понравилось вино, и он тянул рюмку за рюмкой.
— Скажите, пожалуйста, ваши власти могут разрешить мне открыть свою мастерскую? — спросил я.
— Конечно, разрешим, — ответил немец. — У нас никаких большевистских колхозов не будет.
— А война скоро кончится?
— Скоро, — уверенно кивнул он. — Украина уже наша, Москва окружена. До Урала дойдем, и война кончится.
— Но до Урала еще далеко.
Он презрительно махнул рукой.
— Большевикам капут. Красная Армия разбита. Большевики затопили в московском метро полтора миллиона жителей. В Москве образовалось новое правительство. Оно просит фюрера заключить мир, но мы не хотим.