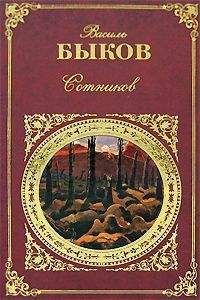Прошло немного времени, и они уже сидели в темноватой боковушке с диваном и небольшим при нем столиком. Лампа из соседней комнаты тускло светила через открытую дверь. Стол был в тени, на нем белели пустые две тарелки, тарелка с салом и хлебом. Перед тем как сесть к столу, Евген куда-то исчез и, привычно прихрамывая на левую ногу, вернулся с бутылкой и двумя стаканами.
– Вот, за встречу. А ты, может, бы разделся?
– Нет, знаешь, прозяб...
– Ну, тогда погреемся!
Он налил два полных стакана, один пододвинул Азевичу, и они молча выпили, стали закусывать огурцами.
– Смотрю, вроде неплохо живешь, – помедлив, сказал Азевич.
– Да уж как есть, – неопределенно отозвался Войтешонок. – Лучше не получается.
– В такое время...
– В такое время недолго и загреметь. На тот свет. Вон в местечке Свирида из райфо... Ты же знал его, наверно? Вчера повесили.
– Свириду?
– Ну.
– А братья Фисяки?
– А что Фисяки? Фисяки служат. В полиции. Стараются. Сами вешать будут.
Азевич ненадолго примолк, обескураженный смертью Свириды. Когда формировали партизанский отряд, этого Свириду не взяли: возражал Витковский. Мол, бухгалтер, беспартийный и вообще мало разбирается в политике. А вот в чем-то разобрался.
– А я вчера Городилова схоронил, – сказал Азевич.
– Убили?
– Помер. Простудился и помер.
– Знаешь, все перемешалось. Свириду повесили, а Дашевский вернулся.
– Ну? Вернулся? Он же в армию пошел.
– Пошел. Попал в окружение и вернулся. И уже руководит районной управой. Не гляди, что был первым секретарем райкома. Доверили.
– Удивительно! Как же так?
– А вот так. Когда меня посадили, он первым отреагировал. Будто я враг народа и так далее. Топил, как только мог. Смотри, и теперь топить будет.
– А тебя немцы... Не трогают?
– А за что меня трогать? Я с лесом не связан, саботажем не занимаюсь. Опять же я пострадал от большевиков. Это сейчас учитывается.
– А к себе не вербуют?
Евген помедлил с ответом, налил еще в стаканы.
– Было. Вот и сегодня в местечке. Приглашали в управу.
– Ну?
– Нет, я инвалид. Не имею здоровья. И немного пожить хочу. Для себя лично.
– Если бы это было можно – для себя лично, – вздохнул Азевич.
– Мне еще можно. Вот тебе нельзя. О тебе в районе известно, что ты в лесу. У Витковского. Тебе, конечно, теперь одна дорога.
Азевич неприятно поморщился, настороженно застыв от стука дверей в сенях. Но это пришел старик, звякнул ведрами. Евген повернул голову.
– Тата, ты это – подожди поить. Пусть постоит еще.
– Пусть постоит. Я не сейчас...
– Да. А то... Быстро ехали, вспотел. Ну так возьмем понемногу?
Они еще выпили – охотно Войтешонок и без особой охоты Азевич. Он давно уже не пил водки, и теперь у него непривычно закружилась голова, стало неприятно и тревожно.
Может, не надо было заходить к Войтешонку. Ну а куда заходить? Нет, все же его бывший друг не такой, как может показаться, он не выдаст. Если бы только его можно было сагитировать на борьбу!
– Колхоз развалился? – спросил он, чтобы не касаться личного, не очень приятного Войтешонку.
– С первого же дня, как наши отошли. Разделили землю, скотину. Урожай собирали единолично. Молотили каждый себе. Правда, было негде – гумен же мало осталось. Мы в тристене кое-как обмолотили.
– А заготовки?
– Заготовки само собою. Как и в колхозе. Сдали, и еще осталось.
– И много осталось?
– Да больше, чем при колхозах. Можно сказать, этот год мужики с хлебом будут. Не то что когда-то: триста граммов на трудодень. Вон в том году отец коней пас, Зоська в полевой работала. Пошел на окончательное распределение – принес в торбочке. Заработок за год.
– У вас бедный колхоз, – сказал Азевич.
– Бедный. А где он – богатый? «Пограничник»? Ну там побогаче, потому что земли получше. Там на трудодень по полкило вышло. А у остальных?
Разумеется, жили не богато, бедно жили, хлеба хватало только до весны. Картошки тоже. Но это тогда мало заботило начальство, гораздо больше – выполнить план, поставки, выплатить налоги, самообложение, заем. Считалось, что крестьяне как-нибудь прокормятся – с огородов, от коровок. Первой заповедью было обеспечить город, исполнить свой долг перед государством.
– Но кто же воевать будет? – сказал Азевич. – Или так и останемся под немцем?
– А это уж как хотите. Мне, например, и под немцем неплохо. Может, получше даже.
– Вот как! – вырвалось у Азевича.
– А что? Что я заслужил у Советов? Работал как проклятый в райкоме, ночей не спал, недоедал, мотался по району. Коллективизация, индустриализация, классовая борьба. А что заработал? Тюрьму. Знаешь, как меня там били? Резиновым шлангом по почкам, карандаши между пальцев затискивали. Да еще признавайся им черт знает в чем. Что в организации белорусских фашистов состоял. Нигде я не состоял – я был честный большевик. Бедняцкий сын. Инвалид с детства.
– Однако выпустили.
– Выпустили? А как выпустили? Испаскудив тело и душу, выпустили. Они же меня в сексоты подписали.
Азевич удивился – не тому, что Войтешонка завербовали в сексоты, а что тот говорит об этом. Никогда никто и нигде ему в том не признавался, а этот, гляди, признается. Впрочем, теперь чего уж бояться? Теперь бояться было нечего – Азевич ни с какой стороны не представлял для него опасности.
– Так что, видишь, я агент НКВД. А ты, может, тоже агент? – вдруг спросил Войтешонок, уставясь в него взглядом.
– Нет, что ты...
– Конечно, ты не признаешься. А мне почему не признаться своему человеку? Я же – не немцу, правда? – улыбнувшись, закончил Евген.
– Я все-таки думал, что ты человек надежный. Помню, как работали...
– А я и надежный. Не бойся, не выдам. Не побегу к Дашевскому. Но и листки ваши на стенах клеить не буду. Вон в Залесье поклеили – ребята из семилетки. Теперь сидят в подвале, в полиции. Матери ревут, рвут на себе волосы: постреляют ребят. Борцы называется!
Азевич напряженно размышлял, стараясь что-то определить в Евгене, хотя его друг в общем становился ему понятен: обжегся на советской власти. По своей ли вине или по чужой – неизвестно. Но, по всей видимости, теперь их пути окончательно расходились. Евген останется – хозяйствовать на отцовском подворье, ухаживать за лошадью, кормить кур и свиней. Вернется к истокам, в крестьянскую жизнь, которой недобрал в молодости. Что ж, может, это не так и плохо. Ну а вот Азевичу из объятий войны, наверно, не вырваться, война вцепилась в него, как злой пес, – зубами и когтями.
– Знаешь, Евген, – сказал он. – Позволь мне спрятаться у тебя. На какую неделю.
– Спрятаться? – переспросил Евген и вслушался. В боковушке были слышны шаги, это прохаживался по избе отец, а так всюду было тихо. – Нет, не могу. Прости, но не могу.
Он встал со стула, прошел в другую половину, но скоро вернулся с портсигаром и спичками.
– Закуришь? Нет? Ах, да ты же и тогда не курил. Не научился... Знаешь, не могу я тебя прятать. Если что – подумаешь: выдал. Опять же у меня отец, сестра. Ведь я за них в ответе. Так что ты уж где-нибудь в другом месте. У какого-нибудь активиста. Я, знаешь, уже не активист.
– Не активист, – скупо подтвердил Азевич.
– Хлеба, ну там продуктов – это пожалуйста. Это теперь мы имеем. Ешь и с собой бери. А прятать – извини.
Он враз поскучнел от непосильной для него просьбы Азевича, как, наверно, и оттого, что вынужден отказать другу. Азевич тоже опечаленно нахмурился. И что ему теперь делать? Где переночевать? Даже если его здесь оставят до утра, как утром уйти из деревни? Увидят – узнают. Так что, пожалуй, надо прощаться, думал Азевич.
– Ну что ж, спасибо за ужин, – сказал он, давая тем понять, что собирается уходить, и тая слабую надежду, что, может быть, Евген еще передумает, начнет уговаривать остаться. Хотя бы на ночь. Но Евген, похоже, не собирался передумывать и спросил о другом:
– Если не секрет, куда путь держишь?
– А вот это секрет, – грубовато сказал Азевич.
У него уже пропало желание продолжать разговор; в самом деле, надо было решать, куда податься.
– Желаю удачи! – добавил он и поднялся с дивана.
Войтешонок также встал, приподняв плечо, скособочился возле стола.
– Какая удача! Сберечь бы голову...
– Вот и береги.
Не сказав больше ни слова, Азевич вышел из избы.
Над деревней давно уже собралась ночь, глухая темнота лежала на подворье, лишь вверху, за черными кронами голых деревьев, немного светилось осеннее небо. Азевич так и не решил, куда податься отсюда, и скорее инстинктивно свернул мимо сараев в конец двора, на огороды; перелез через ограду, ввалился в какую-то яму с хворостом или сухим бурьяном на дне. Выбравшись из нее, почувствовал, что от сапога совсем отвалилась подошва. Еще чего не хватало, встревоженно подумал Азевич, оглядываясь в темноте в поисках выхода с огорода. Наткнулся коленями на колючую проволоку и, поколовшись, едва перелез через нее. На сухом травянистом лугу, за огородами, идти стало удобнее, и он решительно направился в поле – прочь от деревни.