К отправке очерка начала готовиться за несколько дней. Прежде всего переписала его так, как это нужно для телеграфа: «Посылаю первый очерк под названием кавычки так мы живем кавычки точка абзац существуют два ленинградских фронта двоеточие боевой и бытовой точка первый тире на подступах к городу запятая где сражается наша Красная Армия точка второй тире сам город точка». И так далее.
Вчера снова заштопала И. Д. шерстяные носки и рукавицы. Выстирала кашне, чтобы оно, распушившись, стало теплее: морозы лютые. Оставила вчера хлеб И. Д. на дорогу: ведь ему предстояло идти пешком через весь город на главный почтамт, где только и берут телеграфные корреспонденции — и то когда горит электричество. На всякий случай дала свечу для телеграфистки.
И. Д. встал с рассветом и пошел, и вот только сейчас вернулся. Самое горькое то, что нет тока и по вечерам нельзя работать. А вечер сейчас — это начало пятого, да и днем темновато, хотя дни, как правило, морозные и ясные. Вот и сейчас тоже.
Вчера вечером, в предвидении сегодняшнего «телеграфного похода», при свете «летучей мыши» (последний керосин) мы, по моей инициативе, устроили роскошный ужин: половина маленькой сырой луковицы (вторая половина будет съедена сегодня), мелко нарезанная, густо посоленная и политая подсолнечным маслом. Все это с хлебом: каждый получил по три тартинки. Крошки мы высыпали в тарелку. Они пропитались остатками масла, и мы поделили их поровну. Кроме того, мы выпили остатки вина: портвейн «Арарат», высший сорт. После этого мы легли спать необыкновенно счастливые. В темноте тотчас же явилась наша «княжна Мышкина» (оказывается, она еще жива), сновала по столу, клевала крошки, как птица. Потом с писком провалилась в пустой (конечно, пустой) молочник. Мы зажгли спичку. И «княжна», сделав последнее усилие, выкарабкалась из молочника (чего ей это стоило!) и скрылась.
Света у нас не будет. Будут давать ток на три-четыре часа в сутки, но в самое неопределенное время: быть может, ночью.
9 января 1942 года Около 2 часов дня
Сильный артобстрел. И. Д. рядом, за стеной, принимает зачеты у студентов, и я спокойна…
Жанна, девочка моя. Стараюсь не думать о ней, но не могу. Ее письма для меня страшнее самого страшного обстрела. Как она мечется, бедная! Отдала ребенка в ясли, думала, будет лучше. Теперь хочет взять его оттуда, так как он схватил там ветрянку. Правда, легкую, по ее словам. Но много ли такому крошке нужно?
Жанна пишет: «У него личико очень хорошенькое: видно, что он уже большой, что ему скоро год, а тельце худенькое и ротик беззубый — просто сердце разрывается. Ему годятся все его новорожденные кофточки и распашонки. Они стали только очень короткие, а в ширину как раз…»
А я читаю и думаю: «Как он лежал в картузике… Зачем я позволила увезти его? Но что я могла сделать?»
И. Д. утешает меня. И мне самой кажется, что вот только пройдет зима, а там легче будет.
Все замечают, что И. Д. очень похудел. Я стараюсь отдавать ему свою долю, — мне ведь меньше нужно. Но, конечно, этого ему недостаточно.
Появилась нота Молотова к нашим союзникам о фашистских зверствах в оккупированных районах. Я не читала еще, радио тоже молчит. Сейчас оно издало какой-то звук. Оказалось — это проба местного радиоузла. Обстрел прекратился.
13 января 1942 года
Темнеет. У меня нет света. Но я должна немедленно записать то, что слышала собственными ушами: паровозный гудок. Слабый, но ясный и отчетливый. Первый гудок за все время блокады.
Мы все выбежали во двор проверить, правда ли? Тишина. Мороз. Снег лежит. Мы стоим и слушаем. Рядом со мной доктор Пежарская. Она мне напоминает мою покойную мать — и даже не чертами лица, а всем обликом. Мы слушали с ней, потом взглянули друг на друга. Да, дорожные гудки.
Значит, правда, что начала работать ледовая дорога через Ладогу, о которой нам говорили. А потом поезда повезут продукты от Ладоги до города. Это жизнь наша.
Это наше спасение, может быть.
14 января 1942 года. 4 часа дня
Лютый мороз. Сижу в пальто, в перчатках. Читаю Тимирязева. Я знала его по имени, уважала, чтила: мировой ученый, блестящий популяризатор. Но по существу я ничего не знала о нем. Если говорить правду, он был для меня только малоудачным, на мой взгляд, памятником у Никитских ворот: узкая темная фигура, стесанная с боков, в длинной мантии. Руки благонравно сложены, точно у школьника на экзамене.
Этот памятник был сшиблен во время одной из первых московских бомбежек, еще при мне. Но через несколько дней Тимирязев снова, как ни в чем не бывало, стоял на прежнем месте, сложив руки. Его восстановили очень быстро.
Теперь я прочла книгу Тимирязева о хлорофилле, зеленом веществе растений.
«Жизнь растения, — пишет Тимирязев, — постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного — превращение химического напряжения в теплоту и движение». Дальше он говорит, что на солнце как бы «заводится пружина», которая спускается на земле. И эта развернутая пружина и есть жизнь.
«Зерно хлорофилла является звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами планете».
Тимирязев цитирует Больцмана и Ньютона. Ньютон писал: «Природа, по видимому, любит превращенья». И дальше: «В ряду таких разнообразных и странных превращений почему бы природе не превращать тела в свет и свет в тела». Ньютон только догадывался о том, что знал Тимирязев.
Больцман писал: «Растения развертывают неизмеримую поверхность своих листьев и вынуждают солнечную энергию, прежде чем она упадет до уровня температуры земли, вызывать (не вполне еще исследованные) химические синтезы, еще неведомые нашим лабораториям».
«Неизмеримая поверхность листьев…» При этих словах мне представляется колышущийся океан зеленой листвы и частицы света, летящие к нам сквозь ледяные пространства вселенной.
15 января 1942 года. 9 часов 15 минут вечера
Вчера ночью горела прозекторская. Туда привезли полуобгоревшие трупы с завода, где был пожар (пожары теперь подлинное бедствие). Трупы были в ватниках, которые еще тлели, но этого никто не заметил.
Огонь, таившийся между слоями ваты, постепенно выходил наружу. Пламя вырвалось из ватников и охватило старые сухие ящики, привезенные для гробов. Все наполнилось дымом.
Прибежал наш начальник пожарной охраны и стал руками растаскивать трупы.
Воды не было. Пришлось засыпать огонь снегом. Но прозекторскую отстояли.
Как только кончился пожар, начался другой, на противоположном берегу Карповки, вдоль ограды Ботанического сада, где стояли военные грузовики.
От неосторожно разведенного костра загорелся грузовик-цистерна с бензином. Один, за ним другой. На третьем загорелся мотор. Его с опасностью для жизни отцепили от цистерны. Со вторым не могли справиться и столкнули его в Карповку, куда он упал, пробив лед. Столб огня при этом взметнулся выше трубы нашей котельной. А в ней сорок метров.
Сила огня — потрясающая. У нас в комнате можно было читать…
Была очень занята все это время, день так короток, света нет. Хозяйства хоть и никакого, но все равно ежедневно надо что-нибудь шить либо штопать. Моя мания порядка обходится мне дорого. С другой стороны, именно сейчас надо особенно следить за чистотой.
Но все же многое успела: вчера написала 7 строф.
7 * 6 = 42. Для меня это много. Поэтому я не сразу написала об А.
А. — наш москвич. В настоящее время пишет (насколько я поняла) «философский трактат» «Дух войны».
В связи с этим решил, что ему надо взглянуть на Ленинград. Кроме того, у него тут родные жены, которые, ясное дело, голодают.
Не знаю, что из этих двух причин было важнее, но, как бы то ни было, А. добился почти невозможного: прилетел сюда на военном самолете, который вез ордена и дензнаки.
Узнав от Кетлинской мой адрес, А. явился вечером ко мне. Мне позвонили по внутреннему телефону из кабинета Бориса Яковлевича, что меня хочет видеть «писатель из Москвы».
Писатель из Москвы? Боже мой! Закутавшись в платок, я сбежала вниз, в этот ледяной мрак.
При свете коптилки я увидала А. Лицо его мне было знакомо. Но, как это часто бывает со мной, я не знала, кто это. И все же, почти незнакомый, как он был мне дорог! Это был человек оттуда. Я обняла его. Я себя не помнила от радости. Усадила его на диван.
— Говорите, рассказывайте, — повторяла я.
Он смотрел на меня с нежностью и жалостью. Изменилась я, наверно.
В разговоре он, как о чем-то таком, что мне уже известно, сказал о гибели Афиногенова в Москве.
— Не может быть! — закричала я, вспомнив афиногеновские глаза, веселую, плутовскую ямку на щеке, его легкую поступь по жизни: ему все удавалось. — Погиб!..




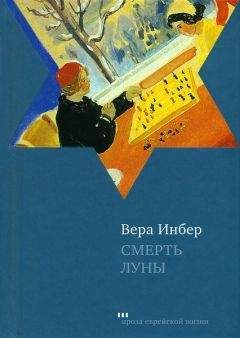
![Алексей Рюриков - 10 июня 1941 года [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)