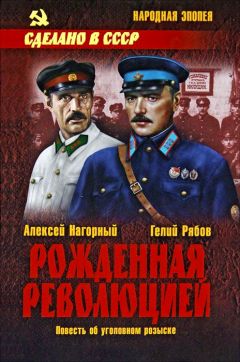Таня не приходила больше. В те редкие минуты, когда Маша и Генка виделись, они никогда не заговаривали о ней, и Маша постепенно привыкла к этому; повседневные заботы вытеснили из ее памяти образ девушки в провинциально сшитом платьице, и однажды Маша, спохватившись, с радостью сказала себе: все. Я больше о ней не думаю. Я - нет. А Гена? Маша встревожилась, но под утро, когда в комнату ввалился измазанный в глине, смертельно уставший Генка, Маша сразу же забыла о своем тщательно подготовленном и даже отрепетированном вопросе и только сказала:
– Я покормлю тебя. Иди умойся.
Генка, кивнув, сказал:
– Мама, тебе здесь оставаться больше нельзя.
– Неужели так плохо? - Она даже села от неожиданности.
– Боюсь, что да. - Он бросил полотенце на кровать и добавил: - Немцы рядом. Вот-вот уйдет последний поезд. Мне обещали помочь ребята из железнодорожной милиции - тебя посадят в вагон. В крайнем случае, уедешь на машине.
Маша молчала.
– Ты не подумай, что я тебя гоню. Отец беспокоится, - Генка вяло шевельнул ложкой. - Есть хочу, а не могу. Не спал уже тридцать шесть часов. Мне будет спокойнее, если ты уедешь. Тем более что я… У меня дело.
– Остаешься в городе? - одними губами спросила Маша.
Он покачал головой:
– Нет, мама. Я не гожусь для подпольной работы. - Он горько усмехнулся. - Так мне объяснил товарищ начальник райотдела. Я ведь "интеллигент в шляпе".
– Тогда я не понимаю. Если ты будешь в городе, почему я должна уехать. Ты не знаешь, ты забыл - я с твоим отцом бывала в таких переделках, что не дай бог!
– Это не переделка, мама, - сказал Генка грустно. - Это такая трагедия, что у меня сердце все время болит. Я не останусь здесь. Через три часа я ухожу на фронт. Заявление в военкомат и рапорт начальнику я уже подал. Резолюция есть. Так что ты не спорь. Ловить в тылу жуликов я все равно не стану. Другие справятся с этим лучше меня.
– Что ж, Гена, - Маша подошла к нему вплотную. - Я все понимаю. Когда нужно ехать?
– Собирайся, - просто сказал Генка. - Через час за нами зайдет машина.
Но машина не пришла ни через час, ни через два. Генка нервничал, несколько раз бегал к автомату звонить в райотдел, но толку добиться не мог. Измученный, он вернулся домой и сказал Маше, что ждать больше нечего.
– Мне страшно, - вдруг призналась Маша. - Я не хочу оставаться одна.
– Я зайду к Тане, - сказал Генка. - И попрошу, чтобы она побыла с тобой, пока я все улажу. И вообще, чтобы она в случае чего осталась с тобой.
– Хорошо, - покорно согласилась Маша.
Таня, неприязнь к ней, раздумье о будущей семейной жизни Генки - все это отступило сейчас на второй план, стало каким-то мелким, незначительным.
– Но почему не пришла машина? - нервничала Маша.
– Если ты спрашиваешь мое мнение, то потому не пришла, что поздно. Нужно быть готовыми к самому худшему, мама.
Генка был недалек от истины. Несколько часов назад танковые колонны немцев обошли город и перерезали железную дорогу на севере. Полного кольца еще не было, машины еще могли пройти по шоссе, но уже считанные часы, если не минуты, отделяли город от начала вражеского вторжения.
Генка посмотрел на часы:
– Я должен быть на сборном пункте военкомата через час. Больше ждать не могу. Попрощаемся, мама. На всякий случай.
Он обнял ее и долго не отпускал - не мог справиться со слезами и не хотел, чтобы она эти слезы увидела.
– Отцу скажи: я все помню, за все благодарен. Я огорчал вас, часто огорчал. Простите меня. Была минута, когда я сказал неосторожные слова - получилось так, что на твой счет, мама. Помнишь в тридцать седьмом? Не перебивай меня, я до сих пор жалею об этих словах. Прости меня за них.
Генка выбежал из комнаты. Маша подошла к окну. Безошибочное чутье матери, необъяснимое, почти мистическое, подсказало ей, что она видит Генку в последний раз. Она вспомнила его - маленького, грязного, измученного, с подтеками слез на впалых щеках, вспомнила, как он бросился к ней, как кричал и бился, не веря, не понимая, что родителей его больше нет. Чужой ребенок, он навсегда стал ей близким и родным, стал настоящим сыном, потому что она вырастила его и выстрадала, как родная мать. Теперь он уходил в неизвестность, и Маша ловила его взглядом, не в силах оторваться. Вот он скрылся за поворотом, а она все стояла и стояла, все никак не могла поверить, что непоправимое, самое страшное уже произошло.
– Гена! - она выбежала на улицу Гена!
Ветер бросил ей под ноги обрывки бумаг, откуда-то донеслись раскаты грома. Она прислушалась и вдруг поняла, что это не гром. Стреляли немецкие танки. Они уже были у дальних окраин города.
***
Генка вышел к полотну железной дороги. Насыпь изгибалась, стремительно уходя к чернеющему на горизонте лесу. Пронзительно и тревожно разорвал тишину паровозный гудок. Кренясь на повороте, промелькнули и скрылись зеленые пассажирские вагоны. Последним был прицеплен вагон специального назначения - "вагонзак". В нем перевозили заключенных. Когда смолк грохот колес, Генка услышал другой грохот: отрывисто и хлестко били орудия немецких танков. Им отвечала наша артиллерия. Эта дуэль происходила в пяти-шести километрах от того места, где стоял Генка, и он понял, что теперь уже и минуты города сочтены. Наверное, следовало немедленно идти к военкомату, но формально до назначенного времени оставался еще час, и Генка решил зайти к Тане, попрощаться и поговорить о матери. Он не мог уехать просто так.
Дом путевого обходчика был совсем рядом - красная черепичная крыша была хорошо видна из-за деревьев.
Генка отворил калитку, и она заскрипела - натужно и тягуче, словно заплакала. Большая собака звякнула кольцом цепи по туго натянутому проводу и со свирепым лаем бросилась навстречу.
– Тихо, Голубчик, тихо, - Генка дружелюбно почесал собаку за ухом, и пес опрокинулся на спину, повизгивая от удовольствия.
– Эх ты, милый, - жалостливо сказал Генка. Таня рассказала ему однажды, что отец бьет Голубчика смертным боем за малейшую провинность. - Плохо тебе? Ничего, брат, терпи. Нынче всем плохо.
Из-за сарая вышел отец Тани - бородатый, лет под пятьдесят. На плечах у него топорщилась истертая форменная тужурка с помятыми молоточками на петлицах и блеклыми пуговицами.
– А-а-а, - протянул он. - Что скажешь?
– Здравствуйте, Егор Васильевич, - с натугой выговорил Генка. - Таня дома?
– Дома, - он смотрел на Генку выжидающе, с явной неприязнью.
– Я к ней. Попрощаться. Может, сюда позовете?
– Чего сюда, - вздохнул Егор Васильевич. - Проходи.
Он распахнул дверь в комнату и, оглядываясь на Генку, сказал:
– Татьяна. Твой это. Встречай.
Таня сидела у швейной машинки, что-то шила. На этот раз она была гладко причесана, волосы на затылке собраны в тугой узел. Такая прическа очень ей шла, и Генка сказал, невольно отвлекаясь от своих мыслей:
– Какая ты красивая сегодня.
Она молча подняла заплаканные, покрасневшие глаза, улыбнулась через силу:
– Заходи, Гена, я сейчас, - и, торопливо снимая передник, скрылась за перегородкой.
Генка давно здесь не был. Он снова, как и в самый первый раз, с удивлением обнаружил, что в простенке между окнами стоит удивительно смешной буфет с оконцами в виде сердец, а в углу комнаты - кровать с кучей перин до самого потолка.
– Вот, - сказал Егор. - Все было бы ваше с Танечкой. За что девку-то обидел? - Он поставил на стол тарелку с солеными огурцами, графин с водкой, три граненых стакана. - Ладно. Выпьем за встречу. Со свиданьицем, - он опрокинул содержимое стакана в рот. - Пей.
Вошла Таня. На ней было то самое платье, в котором она приходила встречать Машу: длинное, ниже колен, с круто обрубленными плечами. На кончике носа белел островок нерастертой пудры. Она села к столу, привычно сложив руки на коленях, и печально посмотрела на Генку:
– Не нравлюсь?
Ей совсем не шел этот наряд, и Генка вдруг подумал с остро вспыхнувшим чувством обиды, что ни в день приезда матери, ни вообще никогда он не мог убедить ее в том, чтобы она не носила этого платья. На все его осторожные, а потом и настойчивые просьбы она отвечала упрямо и зло: "Сами про себя знаем. Мы вам не указываем, какие штаны надеть".
Он пытался втолковать ей, что есть такое понятие, как "вкус", "красота", "идет" или "не идет", но у него ничего не получалось - Таня обижалась и начинала плакать. Довод у нее в таких случаях был один: "Где нам, деревенским, против вас, городских". И тем не менее Генка любил ее - по-настоящему, беззаветно, той первой, истинной любовью, которая так редко выпадает женщинам. Но если бы его спросили: "За что?", как однажды спросила его об этом Маша, он не смог бы ответить. Он был искренне убежден, что любовь нельзя переложить в формулу, она иррациональна и ни в каких объяснениях не нуждается.
– Нравишься, - сказал он натянуто. - Я уезжаю на фронт.
– На фронт? - изумился Егор. - А чего на него уезжать? Он вот, отсюда слыхать.
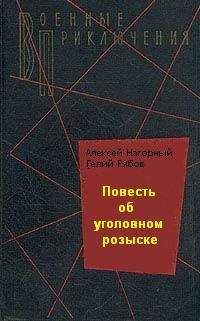



![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)