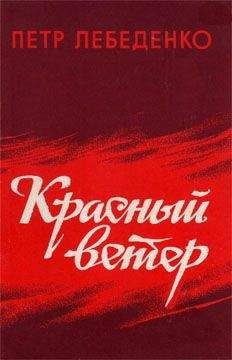— Мой муж — лекарь. А брат — учитель.
— Лекарь, — как бы про себя повторил хозяин. — Учитель… — Помолчал, помолчал и так же, будто про себя, добавил: — А через фронт сейчас не пробраться. Много войск. Много шпионов… Чего не пьете и не едите?
3
Они засиделись далеко за полночь.
Хуан Хименес больше ни о чем у них не спрашивал: наверное, для себя он уже решил, кто они такие. А о себе сказал, что живет один. Жена умерла три года назад. Сын, тоже Хуан Хименес, где-то там — он взмахнул рукой в неопределенном направлении. Воюет. А может, вот так же, как те двое, на площади…
Два или три раза он куда-то уходил, унося с собой пустой кувшин и возвращаясь с наполненным. Когда они оставались одни, Росита говорила: «Не похож этот человек на врага. Угрюмый он, это правда, но кто же будет веселым после того, что мы сегодня видели?»
А Хуан Хименес становился все более разговорчивым: не от вина, а от появившегося доверия к своим гостям. Хмуро покачивая головой, он рассказывал о жизни в городе после фашистского мятежа. Каждый день кого-то убивали, грабили, насиловали. Он не мог понять, почему все это происходит. Итальянцы, марокканцы, немцы — другое дело. Пришли, напакостили и уйдут. Им ничего не жаль — чужие люди. А испанцы? Почему, если они стали фашистами, перестали быть людьми?
Наконец Хуан Хименес сказал:
— Пора спать. — Он указал Денисио на чулан: — Вы располагайтесь здесь. — Потом Эмилио и Росите: — В той комнате ваша постель.
Эмилио и Денисио переглянулись. И Росита это заметила.
Она опустила глаза и молча стояла у двери в комнату, куда должна была идти вместе с Эмилио. Что ей теперь делать? Как ей поступить? И почему Эмилио ничего не говорит хозяину? Может быть, нельзя? Может быть, они с Денисио не совсем ему доверяют?
Денисио сказал:
— Спокойной ночи, Росита. Спокойной ночи, Эмилио.
— Спокойной ночи, Денисио, — ответил Эмилио. — Идем, Росита.
* * *
И вот они остались вдвоем.
Эмилио прикрыл дверь, и сразу их охватила темнота. Он взял Роситу за руку и осторожно подвел к кровати.
— Давай посидим, Росита.
— Хорошо, — шепотом ответила Росита. — Давай посидим, Эмилио.
Впервые она назвала его по имени. Не сеньор Прадос, а вот так: Эмилио. И прислушалась к своему голосу: «Эмилио…» Он не рассердился? Кажется, нет… Заглянуть бы сейчас в его глаза. О чем он думает? Что хочет сказать?.. Возьми меня за руку, Эмилио. Обними меня, Эмилио. Слышишь, какая буря разбушевалась за окном? Чувствуешь, как там тревожно? На душе у меня тоже тревожно. Война… Рядом смерть… Тысячи танкеток наползают на людей… Тащат по булыжникам мостовых связанных и окровавленных летчиков… Страшно, Эмилио. Страшно оставаться одной в этом мире… Протяни мне руку, Эмилио, и страх уйдет. Любовь сильнее страха… Ты слышишь, Эмилио, о чем я думаю?
— Ты не боишься меня, Росита?
— Нет, Эмилио.
Какая теплая у него рука!
— Нет, Эмилио, я тебя не боюсь…
— Сядь поближе ко мне… Вот так… Меня часто охватывает тоска, Росита, а почему — я не знаю. Может быть, это горестное предчувствие, а может быть — от одиночества. Человек ведь иногда испытывает его даже тогда, когда вокруг него много людей…
— Я понимаю, Эмилио.
— Ты помнишь тот день, в горах?
— Помню.
— Я долго после этого тебя искал. Хотел увидеть.
— Спасибо, Эмилио.
— Сейчас мне хорошо с тобой.
— Мне тоже, Эмилио.
И на от холода вздрагивает Росита, а от чего-то другого. Волна дурманящего тепла омывает сердце Роситы, и тонет она в этом тепле, замирая от незнаемого доселе необыкновенно светлого чувства…
…Можно, я прикоснусь ладонями к твоему лицу, Эмилио? Можно, я прикоснусь ладонью к твоим губам? Ты больше не чувствуешь одиночества? Война опустошает твою душу, а я хочу наполнить ее своей любовью. Своей и твоей… Мой отец, старый бедный пастух, говорил: «Любовь и страдание — родные сестры. Но любовь старше и сильнее». Ты слышишь, Эмилио? Я буду любить тебя всегда, всю жизнь… Если ты разрешишь. Если ты захочешь… Нет, нет, Эмилио, не бойся этого, это тоже любовь. Твои беспокойные руки, твое дыхание — это тоже любовь… Пусть простит меня святая дева Мария за то, что я разрешаю тебе делать все, что ты хочешь. Нет у меня сил противиться твоим желаниям. Твоим и своим…
* * *
А потом они долго лежали рядом на этой чужой постели, которая сделала их близкими людьми.
Выл за окном холодный ветер, нес с Иберийских гор черные тучи, косыми струями дождя бил в ставни, свистел в голых ветвях старых олив, мокнувших во дворе под черным небом. Совсем недалеко отсюда грохотала война, они, кажется, слышали в своих сердцах ее отзвуки, но все это было сейчас вне их чувств, а только в сознании, каким-то образом проложившем границу между жизнью, наполненной страданиями, ненавистью, отчаянием, борьбой, и этой ночью их любви.
И лишь перед самым рассветом, засыпая, Росита вдруг прошептала:
— Что подумает Денисио? Что он скажет?
* * *
«И вечный бой. Покой нам только снится». Кто это сказал? Блок? Он говорил лишь о своем поколении или о человечестве вообще?
Денисио прислушался к вою бури, привстал со своей жесткой постели и, на ощупь отыскав сигарету, закурил.
— И вечный бой. Покой нам только снится, — повторил Денисио. — А Павлито говорил по-своему: «Ну и планетка у нас. Не успеют ее квартиранты оглянуться, смотрят — уже война. То там, то тут… И приходится честным людям погибать, чтоб навести порядок…»
Он хорошо помнил тот последний бой. И последние его минуты. Видел, как пошли в атаку Павлито, испанский летчик Утаррос и Гильом Боньяр. Видел, как Арно Шарвен перехватил «хейнкеля» и поджег его с первой же очереди. А потом на Шарвена навалилась тройка «фиатов», и Денисио с боевого разворота срубил ведущего, но в тот же миг длинная очередь прошила левое крыло его «ишачка» и зацепила мотор. В первую минуту Денисио даже не осознал, какая его постигла беда. И лишь взглянув на приборную доску, заметил, как стремительно падает давление масла. Вот-вот заклинит мотор, а там, внизу, полно фашистов: танки, машины, солдаты, сотни повозок…
И он решил, что надо тянуть к горам. Только там может быть шанс на спасение, только там можно покинуть машину.
Неудачный бой, несчастливый. Но могло быть и хуже. Что его ожидало в горах, если бы крестьяне горной деревушки не пришли на помощь? Знали ведь, что рискуют жизнями, а пришли. И никак не хотели отпускать. «Поживи, сейчас нельзя уходить с гор: кругом фашисты, схватят — не пощадят».
А потом — Эмилио Прадос… И Росита… Теперь их трое. Куда они направят свой путь, кто им подскажет, где найти брешь в этом фашистском содоме, чтобы проскользнуть незамеченными?
* * *
Сон не приходил. Мысль нанизывалась на мысль, тревоги сменялись надеждами. Как видения, наплывали образы людей и чудовищные картины. Вот врываются фашисты в дом Эстрельи, и старая женщина, заламывая руки, с мольбой кричит: «Нет! Не надо! Мы ни в чем не виноваты!» Погромщик смеется: «Не кричи, матушка, мы к вам с добром». Подходит к матери Эстрельи и, продолжая смеяться, стреляет в живот. А потом расстреливает ее сыновей. «Стреляли в лица, в головы, стреляли, озверев, уже даже в мертвых…»
Мавры с кривыми ножами. «От уха до уха…» Мальчишка, испанский гаврош, в упор расстреливает франкистского офицера…
Сигуэнса… Площадь… Прыгают, завязанные в мешках, двое молодых республиканских солдат. И ползет, догоняя обреченных, черная танкетка. Скрежещут по булыжникам гусеницы, ревут от восторга фашисты. Эмилио Прадос, испанский дворянин, стоит с мертвенно-бледным лицом и смотрит не отрывая глаз… Какие чувства клокочут в его тысячи раз израненной душе?
«Людоеды! Чтоб вы захлебнулись своей же кровью, дети шакалов и сбесившихся волков!»
Глас народа — глас божий: придет время, и они захлебнутся своей же кровью. А сейчас, пробитый пулями, падает выкрикнувший эти слова крестьянин, и бросаются под гусеницы танкетки республиканские солдаты: «Вива Республика! Но пасаран!»
За окном воет буря. Рвется с Иберийских гор холодный ветер. Воет в обнаженных ветвях старых олив. И стонут старые оливы — от сумасшедшего ветра? От людского горя? Может быть, они чувствуют боль живых людей и слышат призывы мертвых к отмщению?
Валерий Денисов когда-то говорил: «История человечества еще не знала таких антагонистов, как жизнь и фашизм. Кто-то должен исчезнуть с лица земли. Жизнь по самой своей сути бессмертна, значит, она сметет фашизм. Но за это надо драться…»
Надо драться. Все, наверное, только начинается. И через многое надо будет пройти, чтобы увидеть конец. И многое надо-будет отдать, чтобы не стонали оливы…
* * *
Утром Хуан Хименес привел в дом старого крестьянина, с лицом, сплошь изборожденным морщинами. Будто трещины в скалах Иберийских гор, морщины были темными и глубокими. Из-под кустистых бровей смотрели мудрые, выцветшие от времени глаза.