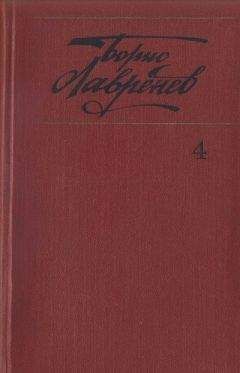Быстро получив отметку и попрощавшись дружелюбно с тем же маленьким адъютантом, Глеб поехал обратно. Нужно было торопиться и до отъезда на вокзал еще раз забежать проститься с Миррой. Глеб уныло опустил голову и односложно отвечал на беспокойные вопросы Василия о войне.
— Гляньте, Глеб Николаевич, как хлопца везут, — окликнул Василий, указывая кнутовищем на подъезжающую навстречу извозчичью пролетку. Глеб нехотя взглянул и увидел на подножках пролетки с каждой стороны по висящему жандармскому унтеру. Они заслоняли тугими спинами и боками кого-то, зажатого в середину пролетки. Когда пролетка поравнялась с фаэтоном, унтер, висевший на подножке лицом к Глебу, дернулся и окаменел, вскинув упитанную морду. Другой перевернулся на подножке волчком и тоже застыл, козыряя. За его туловищем открылся в пролетке худенький, бледный, с неживыми узкими губами. Левая рука его висела на белой повязке. Голубая сатиновая косоворотка зияла разрывами у ворота и плеча.
Одновременно он и Глеб взглянули друг на друга, и Глеб, приподнявшись на сиденье, непроизвольно громко крикнул:
— Шурка!..
Фоменко шевельнул губами: по ним прошла тень улыбки; но сейчас же он отвернулся, пряча взгляд. Глеб, залившись краской нестерпимого стыда и обиды, стоял в фаэтоне, держась за спину Василия. Жандармы тупо таращили глаза на небывалое происшествие, не зная, как принять такой случай, пока один не опомнился и не зыкнул на остановившегося извозчика.
Пролетка отъехала. Глеб опустился на сиденье. Щеки его горели. Так явно высказанное презрение и вражда ошеломили его. Он не понял и не мог понять, что Шурка отвернулся по конспиративным соображениям, следуя традиционной, переходящей из поколения в поколение, тактике не признавать знакомства после ареста. Этой тактики Глеб не знал, и ему казалось, что при всех, при Василии, при этих разжиревших жандармских унтерах, он получил от Шурки публичную пощечину. Он приехал домой расстроенный и подавленный. До отъезда на вокзал оставалось только два часа.
Через два часа начинается вступление в иную, тревожную, совсем непохожую на прожитые золотые годы, неизвестную жизнь.
* * *
Строй выпускных гардемаринов вытянулся двумя шеренгами поперек огромного зала морского корпуса. По длине зала, вдоль обеих стен, под портретами адмиралов застыли почетным караулом три гардемаринские роты.
Сто восемьдесят выпускников — корабельных гардемаринов были расставлены по ранжиру, по прочно установленному традиционному порядку. В этом порядке играли роль не только рост, но и качество гардемаринов. Правый фланг занимали лучшие, отборные — сливки флота, строевики, те, которые всегда на мостиках, на палубах, на виду, гардемарины первого сорта в количестве ста тридцати трех человек. Одним шагом строевого интервала от них были отделены гардемарины второго сорта — инженер-механики, трюмные и водолазные духи, черная кость, скромные муравьи сложной корабельной жизни. Их было тридцать восемь. И, наконец, замыкая строй, на левом фланге жались третьесортники, бесправные илоты, которые при производстве получают не вожделенное, сладко звучащее имя мичмана, а позорный чин подпоручика корпуса корабельных инженеров, гардемарины-строители, непосредственно вслед за выпуском исчезающие навсегда с блестящей поверхности жизни, закапываясь в бумажные сугробы чертежных, в дымные цеха верфей и эллингов.
О них никто не помнит, их забывают через неделю даже товарищи по выпуску, те любимчики морской фортуны, которые повседневно проносят, как драгоценные сосуды, свои победоносные, сверкающие погонами и звенящие палашами, фигуры по эспланадам Гельсингфорса, по Невскому проспекту, по Приморскому бульвару Севастополя. И если им напомнят фамилию судостроителя, товарища по выпуску, они поджимают губы, подымают брови и цедят равнодушно: «Д-да, как будто бы припоминаю».
Судостроителей на весь выпуск было девять. Кому же охота добровольно отрекаться от прелестей жизни? Только сумасшедшие или аскеты могут решаться на это безрадостное существование. Они сами избирают удел презрительного забвения и платят за него тем же, строя для избранных корабли, которые к моменту спуска оказываются архивными экспонатами, с малой плавучестью, с вылетающими от башенных залпов клепками и другими катастрофическими дефектами.
Сто восемьдесят корабельных гардемаринов разных сортов, объединенные пока еще в одно целое железными клещами строя, ждали внезапного выпуска.
Они стояли в мертвой тишине, а за стенами корпуса кипела и билась встревоженная накатывающимся валом военного шторма невская столица.
Но здесь было тихо. Потолок знаменитого зала развертывал над гардемаринами свой простор, как огромный белый парус, уносящий к счастью и славе.
Зал был знаменит своей огромностью и солидностью. Прочность бесконечной площади паркетного пола была испытана после капитального ремонта оригинальнейшим и остроумнейшим способом. Кто-то из высшего начальства, осмотрев только что отделанный зал, усомнился в прочности тонких рельсовых балок, заменивших чудовищной толщины корабельные сосны, поддерживавшие пол до ремонта.
— Это не балки, а спички, — брюзжало начальство. — Роту ввести — и провалится.
Обиженные строители решили наглядным способом доказать облыжность начальственных подозрений. Золотым августовским утром в зал были приведены два батальона Балтийского экипажа с оркестром.
Батальоны построились в две колонны повзводно, с законными интервалами, во всю длину зала. Оркестр отвели на хоры, где у решетки собралось начальство — строители, приемная комиссия, офицеры батальонов. Внизу, на отливающем синью из окон паркете, в интервалах между взводами, по углам зала, на середине, по диагоналям, стояли заранее заготовленные сейсмографы и другие сложные приборы для измерения колебаний. Батальоны замерли на месте по команде «смирно», не подозревая и недоумевая, зачем их расставили на этой паркетной пустыне, где загадочно поблескивают стеклом и медью неизвестные приборы.
Но им не дали долго раздумывать. Командир первого батальона набрал воздуха в легкие и пропел с хор оглушающим баритоном:
— Батальо-о-оны!.. На месте ша-а-агом ма-а-а-арш!
Платиново мерцающие трубы оркестра ударили в стены гулким тараном Преображенского марша. Две тысячи тяжких дюймовых каблуков грянули в паркет. По залу пошел громыхающий рокот, ударяясь в потолок, разбиваясь о решетки хоров.
Зеленый мичманок, дежуривший в тот день по корпусу, тревожно округлил глаза, побледнел и незаметно прошил грудь мелкими крестиками, а председатель приемочной комиссии, контр-адмирал Колокольцев, осклабился, как нажравшийся рыбы тюлень, и воркующе сказал командиру батальона:
— Лихо они у вас ходят. Прямо слоны!
Озадаченные небывалым маршем, слоны балтийского экипажа, наливаясь кровью, грохали в пол с точностью метронома. Удары били залпами:
— Батальо-о-ны!.. На месте ша-а-агом ма-а-а-арш!
Сатанея, звенел оркестр, и командир батальона, с отвисшей внезапно челюстью и осоловелыми, как у мышиного жеребчика, разглядывающего ножки балерин, глазами, перегнулся через перила решетки и, утеряв ясность голоса, исступленно прохрипел:
— Ножку!.. Крепче ножку, ребята! По две чарки, молодцы!
Гром усилился. Казалось, качается все здание. В рядах батальонов началось странное, непозволительное шевеление. Головы заводных слонов, устремленные по уставу прямо вперед, стали оборачиваться назад к хорам, лица бледнеть. Люди поняли, но продолжали с отчаянием безысходности грохотать каблуками.
Двадцать минут продолжался этот страшный неистовый марш на месте, все оглушительней, все быстрее темпом, пока Колокольцев не махнул с испугом рукой. Оркестр смолк, оборвался грохот. Батальоны вывели из зала. Проходя коридорами к выходу, матросы во всю глотку матерились. Взводные делали вид, что не слышат.
В зале сутулый поручик корпуса корабельных инженеров, единственный офицер, находившийся внизу для наблюдения за приборами (кого же еще можно было оставить с матросами, обрекая на гибель в случае обвала, как не третьесортного офицера!), зябко пожимая плечами, рассказывал обступившему начальству:
— Прямо не знаю, господа, как выдержал. Весь пол плясал, как пружинный матрац. Вверх… вниз… Точно качели, ей-богу. Я сперва все же следил за приборами, а потом плюнул, закрыл глаза и только жду… вот-вот пролетим в первый этаж. Дрожу, как лист, и «Отче наш» читаю… Девять раз прочел, ей-богу.
А на улице в рядах уходивших батальонов по шеренгам глухо перекатывалось:
— Это что же, братцы? До чего драконы, сволочи, додумались!
— Нашим братом балки пытать?
— Погоди, мы ихнего брата тоже под балки положим.
И в первый раз офицеры не оборвали недопустимые разговоры в строю, шли молча, кусая губы и бледнея.