— Что случилось?
— Одна забота, — глухо отозвался он. — Прислали бы нам тридцатьчетверки... Только бы не «валентины». Горят, как из картона...
Хотя через Баку к нам шли легкие английские танки «валентина», вызывающие у танкистов оправданные жалобы, мне не хотелось в эту ночь огорчать его:
— Придут тридцатьчетверки!
«Додж» укатил, круто развернувшись на улице, а я пошел выяснять, какая же из женщин на экране, по мысли других участников просмотра, была женой майора Егоршина. Все уже высыпали на крыльцо, собравшись по домам. Длиннобородый дед-вахтер выводил из ворот упирающегося ишачка.
Выслушав мой вопрос, солидный начальник рассмеялся:
— А я хотел вас спросить! Но я вам вот что скажу... Мне неважно, какая она, честное слово. Это их касается.
— А мне даже моя жена опять понравилась, — подтягивая ишачка, прибавил дед-вахтер.
— А мне все понравились! — взбираясь на ишачка, крикнул киномеханик. — Все до одной!
И погнал его вслед за «доджем», в темень.
Ну ладно, подумал я, отложу свой вопрос до новой встречи с Егоршиным.
...Через месяц, не больше, я догнал его танкистов в Георгиевске, небольшом городке, еще темневшем серыми стенами своих домиков на искристо-белом снегу раннего утра. Полк остановился на краткий отдых, ожидая пополнения перед ударом в сторону Краснодара. Узнав, где развернулся штаб, я ворвался в дом, представился и выпалил:
— Командира полка!
Когда показали на дверь, я толкнул ее не раздумывая, вошел и вытянулся. Со скамейки у стола навстречу мне поднялся молодой майор, нарядно-черноусый.
— Извините, — сказал я, — а Егоршин?
— Майор Егоршин погиб позавчера при освобождении этого города. Вчера похоронили при участии многих жителей... А те танки еще стоят на улицах, — вздохнул он.
На улицах, разыскивая полк, я видел три или четыре «валентины», разрисованные языками густой копоти. Позавчера. Значит, Лиза Егоршина еще ничего не знала.
Вот так все вспомнилось.
А ведь молчал...
Был вечер, тихий и какой-то старый-старый, будто вокруг всегда было так: тоненький месяц бескровно прорезывался в сером небе, как неживая и потому неизменная деталь декорации, над той вон сиротливой, откинутой от села избушкой неподвижной палкой торчал дымок, и три тени от берез густо синели у бывших церковных ворот, оставивших на земле лишь кирпичные стояки, крытые штукатуркой. Кое-где штукатурка, потрескавшись, обвалилась, и ржаво краснеющий кирпич издали казался цветными заплатками на этих дырах.
Березы растолстели за долгую жизнь и коряво изгибались под грузом лет, а тени их отползали от электрической лампочки, которую рано зажигали на столбе, чтобы не забыть. Лампочка освещала дорогу в село, а не церковь.
Игнату помнилось, что когда-то у дороги шепталась белая роща, здесь, в этой роще, он давно, до школы еще, нашел свой первый подберезовик. В безнадежном предвидении, что скоро сюда пожалует город и съест и само село, и рощу, пошли рубить березы на плёвые сарайчики, на ограды, на дрова, пока не свели все до единой, кроме этой прицерковной троицы.
А город остановился. Вместо градостроительства взялась за свое война. И село доныне еще жило на своем месте, только рощи не было. Словно бы от обиды на людей, березы больше не росли здесь, среди пней, облепленных, бывало, опятами. С годами как-то незаметно и пни поисчезали, сгнили, разветрились. Да чего — незаметно, когда ему, Игнату, уже перевалило за сорок. Незаметно проходит жизнь...
Он впервые сделал такое открытие сейчас, когда появилось время подумать о многом, и усмехнулся, прячась от испуга. Не что-то ведь проходило, а жизнь! Сидел на старом валуне, веками заставлявшем узкую тропу в траве огибать эту достопримечательность, и делал открытия, изводя одну сигарету за другой...
Время у Игната появилось, потому что его уволили с работы. Сразу он даже и не сомневался — позовут назад, наказание оценивал исключительно как моральное. Клава заставляла пойти к начальству, потолковать, выдать ребят, из-за которых его уволили. Буквально заливалась слезами. А он соглашался с ней, пока слушал, но потом вдруг решал: нет. Не пойдет. Он прикрыл молодых ребят, почти молча вынес все расспросы и разговоры, так что же, для того, чтобы теперь завалить Володьку и Петю, которым верил? Они клялись, что все вышло без умысла, нечаянно, и стучали себя в грудь кулаками как шальные, а он помнил: месяца не прошло, как у Володьки родился сын, а Петя вот-вот на свадьбу позовет. Его, Игната, бригадира, безмолвно взявшего на себя чужую вину, только уволили, все же посчитались с ним, а их могли и под суд отдать.
Целый месяц он ждал — вернут на каменную стену новостройки. В отпуск, полученный при увольнении — хоть что-то дали за хорошую работу, правда, без путевки на этот раз, — никуда не поехал. Из-за того, что ждал. Но так и не позвали. А он все ждал, пока не понял: ждать — не дождаться! Теперь он уже не ждал, но все же и на другую работу не спешил устраиваться. Больше недели жил тунеядцем...
Жил Игнат не в этом селе, а по соседству, в деревеньке, тоже под боком у города. В первые дни после внезапного увольнения прятался дома, стыдился людских вопросов, а в последние, наоборот, выходил во двор, прилипал к плетню, часами маячил в одной точке, а то и выбредал на улицу, усаживался на скамейке, отполированной разными задами, надеялся, что кто-нибудь из знакомых — а тут все подряд знакомые — присядет рядом, закурит, сам спросит, тебе ответит. И получится разговор. Но люди на глазах проходили мимо, даже пробегали, у них не было времени. Ни у кого.
Некоторых Игнат пытался остановить, похлопывая ладонью но скамейке, заманивая посидеть, но они отговаривались на бегу:
— Дома ждут, сын чего-то в школе натворил!..
— Рад бы, да время нет!..
Иные, правда, сами останавливались и даже тянули «хлопнуть по рюмочке», хотя рюмок-то и не видели сроду, запросто обходясь гранеными стаканами, но Игнат — верьте не верьте, а не пил. Смолоду Клава пригрозила, что уйдет, если муж не устоит перед пьянью, и теперь он благодарил ее за характер. С ней можно бы побеседовать, но уж всё оббеседовали, как примется снова слезы лить, нет...
И стал он вечерами уходить в соседнее село под видом прогулки, на час, на два. Может, здесь у кого найдется время? Он ведь не собирался ни помощи просить, ни защиты, ничего, только душу отвести. И сидел на старом камне одиноко, если не считать сигареты.
— Добрый вечер!
Игнат оглянулся на чей-то обильный голос и от неожиданности подавился своим дымом, задохал до слез, а потом долго отфыркивался и сморкался. За его спиной к валуну подошел поп, натуральный поп, в рясе, крепкий, хотя уж и немолодой, с седой бороденкой и румяным, расплывшимся лицом.
— Можно, и я тут сяду? — спросил он и опустился на край камня, проверяя рукой, хорошо ли подмахнулась сзади ряса. — А вечер и в самом деле добрый!
— Да, — подтвердил Игнат, раздумывая, не уйти ли, то есть не удрать ли, дождался, хотя с детства никакой нужды в попах не испытывал.
— Сигарсточкой угостите?
— А вам можно? — спросил Игнат.
— Всем нельзя. А все курят! Очень уж пахнет вкусно!
— А моя жена ругается, — усмехнулся Игнат, поднося попу спичку. — Ей невкусно. «Эка, — говорит, — провонялся насквозь! Сам гулять идешь, а сам...»
— Женщина, — сказал поп. — Господь ее простит.
Прикрывая глаза, он со счастьем затягивался. Покосился разок назад, в гору. Невесть когда природа воткнула в землю этот валун на спуске к речушке, сплошь заросшей кустарником, по этой тропе редко кто ходил, и поп успокоился: докурит, авось не заметят.
Вместе с ним Игнат невольно глянул наверх, на стояки от ворот.
— У церкви ворота были? И ограда, значит, была? Зачем и почему?
— Интересует?
— По моей фантазии — церковь всегда открытая, перед ней — поляна, ну, словом, простор, заходи себе. А тут...
— Думаю, от скота возвели забор. Там — город, стадо гнали всегда отсюда, а корова, как известно, глупа до полного равнодушия к чему угодно. От автомашины, например, даже баран сам отскакивает, а корова — гуди шофер, не гуди — шествует себе, ни с чем не считаясь. Объезжай!
— А может, это она от гордости? — спросил Игнат для шутки, ему вдруг захотелось улыбнуться.
— Вот-вот! Но ведь нет ничего глупее гордости-то! Да еще коровьей! — зычно посмеялся поп, — Они, грешницы, должно, и на паперть забредали. Вот и пришлось отгораживаться!
— А сейчас-то не надо?
— О-хо-хо! — уже не засмеялся, а глубоко вздохнул поп. — Церквушка наша еще работает, но коров-то в селе уж нет! Все за счет города живут. В магазине — молоко, кефир, сметана... Постоял в очереди — и пожалуйста!
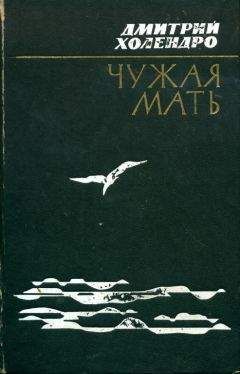

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)