Все стали молча расходиться: Курт зря, конечно, обидел чайханщика. Весь колхоз знал историю Курбана, в ту зиму он совершил подвиг, но подорвал здоровье; с тех пор ему поручают лёгкую работу, и ни у кого, никогда не возникало вопроса «почему?». И Курт знал это прекрасно, а сейчас он задел его от злости.
Сегодня у колодца праздник — в полдень прибыла нежданно-негаданно кинопередвижка. Шофёр-киномеханик, юркий, худощавый паренёк лет двадцати, двадцати двух, извлёк откуда-то из-за спинки своего сидения свёрнутые в трубку огромные листы бумаги и ловкими привычными движениями наклеил их на все четыре стены чабанского домика. «Шукур-бахши», — большими синими буквами было написано на листах.
Вторую половину дня только и разговоров было о кинофильме. Кое-кто видел фильм — в городе он уже шёл, но большинство парней о «Шукур-бахши» лишь читали и поэтому ждали вечера с нетерпением.
На закате подъехало три машины — это узнали о кинопередвижке на соседних кошарах. Завтра, послезавтра она пожалует и к ним, но это не беда — хороший фильм можно смотреть несколько раз подряд.
Зрители уселись, вернее улеглись прямо на песке, на покатом склоне бархана. На склоне противоположного бархана киномеханик воткнул два металлических шеста и натянул белое полотнище. Это экран.
— Ну что, начнём?! — крикнул механик после долгой возни у аппарата.
— Давай!
— Чего тянуть-то?!
— Журнал показывать или сразу фильм?
— Без журнала, как обед без чая…
— Давай журнал!
— Хорошо, яшули, журнал так журнал. Поехали, — и киномеханик включил аппарат.
На экране возник яркий прямоугольник, на котором мельтешили какие-то неясные силуэты. Киномеханик что-то подкрутил, повернул в аппарате, и видимость стала прекрасной: у подножия огромного зелёного холма мирно паслась отара. Дело, видимо, происходило ранней весной: холм покрывала мелкая изумрудного цвета травка, а по склону резвились совсем ещё крошечные ягнята.
Диктор говорил о той огромной роли, которую играет в современном овцеводстве искусственное осеменение.
— Обманываем природу, — громко, так, что все услышали, сказал один из зрителей, пожилой чабан. — Аллах не даст, осеменяй, не осеменяй — ничего не получишь…
— Ты что-то набожным стал, Оде, — возразил ему сидевший рядом тоже преклонных лет человек. — Уж не считаешь ли ты, что нас с тобою кормит и одевает аллах?
— Ты, Нурберды, погоди. Как говорится, имей терпение и выслушай заику…
— Заику слушать — время терять. Ты лучше прямо скажи, куда клонишь.
— А туда клоню, что в последние годы падёж скота всё больше и больше. Почему? Да потому, что перешли на сежика. Но овца не кошка, четырёх ягнят ей трудно привести. А если и окотит, так ягнята не больше моего кулака. Ну, а какая из такого ягнёнка овца вырастает, ты знаешь. Её ветер с ног валит.
— Кормить нужно получше…
— Корми не корми — от такой овцы проку не получишь. Ни шерсти, ни мяса
— Вали, ровесник, с больной головы на здоровую.
— А что, — вступил третий в разговор. — Оде во многом прав. В последние годы и в самом деле скота гибнет слишком много.
— Зимы стали холоднее, — сказал кто-то.
— И это может быть.
— А что, Рахман, до войны помнишь, какие морозы бывали. Мы же с тобою в сороковом чуть не замёрзли вот у этого же колодца.
— Зимы тут ни при чём, — вновь заговорил Нурбер-ды. — Мы вот кричим: большой падёж, большой падёж, а забываем, что раньше во всём районе было каких-нибудь пять тысяч голов овец, а теперь только в нашем колхозе больше двадцати. Раньше гибло пятьсот голов, а сейчас тысяча, А что такое тысяча голов для нашего района? Капля в море. Но если вдуматься: погибло тысячу овец. Много, конечно.
— И ещё гибнут от скрещивания, — сказал Рахман. — Перевели нашу туркменскую породу овец.
— Вот, вот, — подхватил Оде. — То же, что сежике. Аллаха обмануть решили.
— К зиме не готовимся как следует, а потом валим на аллаха…
— Это точно, — поддержал говорившего Курбан-чайчи. — С осени не шевелимся, а когда снег и морозы прикрутят, начинаем завозить корма на кошары. Пока соберёмся, раскачаемся, а корма эти, можно сказать, уже ни к чему. Овцы-то погибли.
— Вон на днях, — сказал Нурберды, — привезли сюда несколько машин рисовой соломы. «Зачем? — спрашиваю у завфермой. — Её ж овцы не едят». «А это не для корма», — говорит. «А для чего ж?» «Для подстилки. У вас зимою овцы от холода гибнут». «Не о г холода, а от голода», — говорю. «Завезём и фураж». Только знаю я, как он завезёт.
— Может быть, и завезёт одну-две машины, — сказал Оде. — Только что это для отары.
— А теперь «Шукур-бахши»! — положил конец всем разговорам голос киномеханика. — Журнал кончился.
И вот в этот момент Довлет увидел Айгуль. Она с матерью и младшим братишкой прошли совсем рядом, едва не задев его. Прошла и опустилась на землю в двух шагах от него. «Интересно, заметила она меня? — подумал Довлет. — Если заметила, то она обязательно обернётся». Но Айгуль, затаив дыхание, ждала начала фильма. Киномеханик, бормоча что-то невнятное, долго возился с аппаратурой, несколько раз включал было, ко тотчас же выключал, перематывал с бобины на бобину плёнку, включал снова.
Айгуль сидела как изваяние, гордо подняв голову, и ждала. Довлет тихонько кашлянул, стараясь обратись на себя её внимание, но из этого ничего не вышло. Он кашлянул громче — тот же результат. Что бы сделать такое?.. Но тут начался всё же фильм.
Айгуль не сводила глаз с экрана, а Довлет, как ни старался, не мог оторвать взгляда от темневшей в каких-то двух шагах, но такой далёкой для него, фигуры девушки.
На лужайке у реки сегодня, кажется, собрался весь колхоз. Ещё бы — праздник урожая! Его люди ждут целый год.
Берега Амударьи обильно поросли тальником, кое-где на прибрежных отмелях стоит густой стеной камыш.
Совсем по-летнему греет солнце, но по тому, как роняет пожелтевший лист тальник, как тоскливо прокурлыкал высоко-высоко в чистом небе журавлиный клин, угадывается осень.
На праздник собрались и стар и мал. Там и здесь сидят на кошмах небольшими группами почтенные яшули, снуют, наполняя поляну весёлым гомоном, стайками, как воробьи, сорванцы-мальчишки. Чуть в сторонке парни готовятся к предстоящим состязаниям в борьбе гореш. Поодаль на склоне холма несколько жокеев в ярких кепи прогуливали лошадей: какой же праздник без скачек!
В самый центр лужайки вышел вдруг чабан Оде с двумя дутарами в руках. Сам он никогда в жизни, кажется, не играл и не пел, и сейчас все с любопытством глядели на него, что он собирается делать?
— Люди! Не говорите потом, что вы не слышали, — громко произнёс он. — Два парня— Курт и Довлет— влюбились в одну девушку. В Айгуль. Айгуль, иди-ка, милая, сюда.
Из нарядной девичьей толпы вышла Айгуль.
— Вот тебе дутары, доченька, — сказал Оде, — иди и отдай их. один Курту, другой Довлету. Пусть они состязаются. Кто победит, тот и будет твоим.
Айгуль взяла дутары и не успела сделать шага, как, откуда ни возьмись, подбежал к ней незнакомый парень и выхватил оба дутара…
В этот момент Довлет проснулся.
— Фу, — сказал он вслух, пригрезится же такое.
Чуть в сторонке, слегка прикрывшись пиджаком, спал на белом полотне экрана киномеханик. Широко распахнув руки и ноги, он сладко посапывал и чему-то улыбался во сне.
Довлету показалось, что на груди у парня что-то лежало. Привстав на локоть, он присмотрелся, это «что-то» шевельнулось. Довлет вздрогнул. Он смотрел широко раскрытыми глазами и чувствовал, как за каких-нибудь две-три секунды всё тело его покрыл холодный, липкий пот.
Что делать? Крикнуть бы, разбудить всех, но Довлет не то что крикнуть, рта открыть не мог. Он понимал, что на груди у киномеханика змея и что убрать её оттуда нужно сейчас же, пока парень не проснулся или не перевернулся во сне. Но как её убрать?
Взгляд Довлета упал на кочергу, что лежала возле титана. Взять её? Но кочергой можно только разозлить змею — ударить-то её не ударишь. Затем он увидел стопку чашек.
«Накрыть чашкой её? — подумал Довлет. — Накрыть, а уже потом будить киномеханика…»
Он встал и осторожно, по-кошачьи двинулся к чашкам. Когда же Довлет уже с чашкой в руках подошёл к спящему киномеханику, никакой змеи там не было. Он посмотрел по сторонам и увидел хвост змеи, которая спокойно уползала в заросли верблюжьей колючки.
Довлет швырнул чашку, схватил кочергу, но тут из домика вышел Курбан с чайником в руках.
— Что случилось, Довлет? — с удивлением спросил он.
— Змея!
— Ну и что?
— Она лежала вон у него на груди, — показал он на спящего киномеханика, который, как ни в чём не бывало, продолжал насвистывать носом какую-то свою мелодию.
— Не тронула?
— Да, кажется, нет.
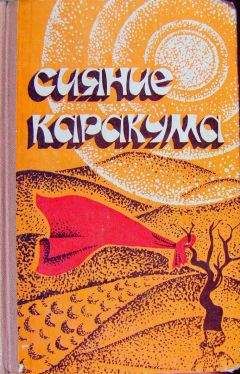
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](https://cdn.my-library.info/books/227994/227994.jpg)



