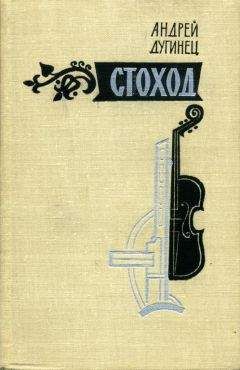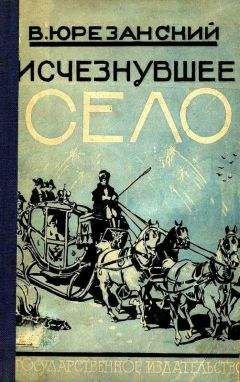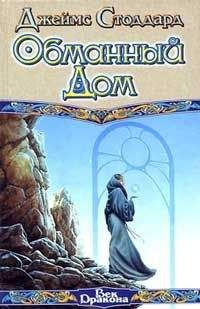Анна Вацлавовна тоже закурила. Подошла к Басовой и вместо расспросов начала рассказывать ей о себе.
Сначала Басова слушала, все так же отчужденно глядя в окно. А когда Анна Вацлавовна рассказала о том, что она пережила в застенках гестапо в Хелме, Басова быстро обернулась и удивленно, словно вдруг узнала родную сестру, спросила:
— Вы тоже побывали у них?
— И вы? — Анна Вацлавовна пытливо посмотрела на Басову.
— Понимаю ваше удивление… — опустила голову Марина и начала причесывать коротко стриженные ржаные с проседью волосы. — Да, в биографии об этом я не писала: на бумаге все не уместишь… только не думайте чего плохого. Просто я стараюсь все забыть. Но такого, видно, никогда не забудешь…
— Я, когда еще оформляла вас на работу, подумала: что гоняет человека с места на место? Теперь понимаю: вы убегаете от самой себя, от тени своего прошлого.
Басова молча курила.
— У вас больное сердце? — участливо спросила Анна Вацлавовна.
— Почему вы решили?
— Да вчера ж на вечере вам стало плохо.
— Нет! — отрезала Басова и долго молчала. — Просто давно не слушала скрипку. А он еще будет играть?
— Не знаю, завтра он, кажется, уезжает.
— Насовсем? — привстала Марина.
— Он ведь у нас не работает. Приезжал в отпуск и на прощание сыграл.
Басова нахмурилась и тихо промолвила:
— Если он уезжает, то я не буду увольняться, только мне нужно дня два отдохнуть. Уйду куда-нибудь в лес, подальше от людей…
— Деньги у вас есть?
— Денег у меня всегда много: тратить не на кого…
— У вас семьи еще не было?
— Семьи? — недоуменно переспросила Басова. — Какая ж у меня может быть семья?
— Но вы же еще молодая, к тому же красивая.
— Красивая! Красивая! — вдруг истерично выкрикнула девушка. — Будь она проклята, эта красота! Из-за нее-то вся жизнь поломана. Анна Вацлавовна! Неужели вы меня не узнаете? — и Марина обняла Анну Вацлавовну и зарыдала.
Трудно человеку одному со своим горем. Не может он всю жизнь нести его один. Рано или поздно его потянет к тому, кто способен разделить его тяжкую ношу, поплакать вместе с ним.
И хотя Анна Вацлавовна давно свыклась со своим горем, сердце ее не окаменело.
— Анна Вацлавовна, все, что написано в моей анкете до конца войны — сплошная липа, — призналась Басова. Там написано, что родилась я в Грозном. Неправда, я — из Морочны.
— Из Морочны?
— Да, Зося Ткачук…
— Зося? Санитарка больницы?
— Да. Я-то сразу вас узнала и тут же хотела уехать в другое место. Но поняла, что вы меня не узнали, и осталась.
— Да я ведь видела тебя в Морочне всего несколько раз. Ты работала в районной больнице, а наш медпункт был на другом конце села.
— А до открытия больницы я жила на хуторе и в Морочне бывала только по большим праздникам.
— Почему же ты теперь так законспирировалась?
Зося жадно затянулась и начала медленно рассказывать о мучениях, что пережила в публичном доме, куда увезли ее с Олесей. После побега Олеси Ганночка стала измываться над своими затворницами. Несколько девушек покончили самоубийством. А Зося выбралась на свободу с помощью бодяги: по примеру подруги приложила на ночь к щекам распаренную бодягу. К утру лицо вздулось большими синими волдырями. Ганночка испугалась, что это заразная болезнь, и выгнала ее на улицу. Жгучий стыд не позволял Зосе возвращаться в родные места, показываться близким и знакомым. Поэтому она изменила фамилию, решила больше никогда не встречаться с теми, кто ее знал до войны.
— Так ты не хочешь, чтобы Гриша узнал тебя?
— Да.
— Ты не права, ох, как не права! — пряча в стол заявление и трудовую книжку, сказала Анна Вацлавовна. — Зря ты так. Олеся тебя так долго разыскивала!.. Ей-то надо бы дать о себе весточку.
— Нет, Анна Вацлавовна, я решила твердо: встречаться нам уже нельзя.
— Иди отдыхать, Зося, а когда Гриша уедет, мы обязательно что-нибудь придумаем. Нельзя же так всю жизнь…
* * *
Синее-синее поле. Это цветет лен звена Оляны Миссюры. На краю поля — серый валун величиной с трактор. На валуне чернеют глубоко высеченные буквы:
«К о н о н Б а г н о»
Григорий и Оляна стоят возле камня, смотрят на цветущее поле. Дохнул ветерок — и по льну пошли синие волны. Колышется, плещется васильково-синее озеро над вечным покоем деда Сибиряка, первого осушителя Чертовой дрягвы, ее бесстрашного защитника.
По меже между льном и рожью не спеша, величаво идет аист.
— Аист! — обрадовался Григорий. — Чем же он теперь живет? Лягушек не стало, раз болото осушили…
— Теперь он мышами пробавляется, — отвечает мать. Из-за ольшаника вырвался гул мотора. Григорий оглянулся и увидел быстро приближавшуюся автомашину.
— Антон! — обрадовалась мать, но тут же на лице ее появилась тревога: — Опять тебя заберут на весь вечер!
— Мамочка, не огорчайся, после концерта я отнесу цветы на могилу Александра Федоровича — и сразу домой, — успокоил Григорий.
— Пять дней гостишь, а больше часа в день не виделись, — вздохнула мать.
— А разве плохо, что я нужен не только тебе? — гладя рукой сыпучие седые волосы матери, тихо спросил Григорий.
— Ох, сынок! Так хорошо, что сердце от счастья заходится… Только ж хотелось, чтоб рассказал побольше об Олесе, о моей внучке.
— Я же тебе обещал: Леся в отпуск обязательно приедет с Сашей к вам. Они давно рвутся. И я буду здесь, писать музыку.
Когда Григорий повернулся, аиста на прежнем месте уже не было. Он летел над бескрайним синим полем. Летел тяжело и устало, словно навсегда уносил на крыльях чью-то большую вековечную печаль.
Багно, багон — болото.
Шарварок — отработка за долги или общественная повинность.
Секвестратор — сборщик налогов.
Ковалок — клочок.
Морг — 1/8 гектара.
Грудок — островок на болоте.
Мурашковцы — изуверская секта, отколовшаяся от баптистов.
Лава — скамья, стоящая у стены, от порога до переднего угла.
Комин, коминок — печурка, шесток, приспособление для освещения комнаты лучиной.
Солтис — сельский староста.
Турухтан — болотная птица, которая весной меняет оперение до неузнаваемости.
«Германия, Германия превыше всего!»