— Мы напишем, — ломким голосом пообещала Зина.
— И еще, — прибавил Вася.
— Что?
— Паш поезд ровно в девять. В девять все и скажите, нас уже не догонишь. А скажете раньше, сейчас, например — мы пропали. Так что мы — в ваших руках.
Игнату не довелось растить своих детей, и вдруг эти двое показались ему детсадовской парой, за которую судьба внезапно наградила его ответственностью. А кто такой этот Вася? Куда увезет он румяную девушку? А вдруг и правда бандит? Убьет, ограбит... Да что у нее брать-то? Клетчатый платок? И все же было мгновение, когда он внутренне дрогнул и чуть не выдал ребят Алексею Григорьевичу. Втянули его, постороннего, в какую-то личную историю, зачем, почему, мало того, что совсем чужая дочка, еще и поповская, с бандитом убежала...
«Да какой он бандит: — перебил себя Игнат. — С шестнадцати лет работает...»
И опять слушал Алексея Григорьевича, который рассказывал, как стал попом. Все началось с обиды. Ох, обида! Злой сорняк в жизни! Сколько соков она выпила из людей, сколько судеб покалечила... Поп сказал:
— На обиде ничего строить нельзя, можно только ломать. Городок, где жил он до войны, откуда ушел на фронт, недолго был в оккупации, но фашисты его разрушили. Несколько домов осталось, в том числе и тот, где у Алексея Прошина, довоенного выпускника мукомольного техникума, неженатого итээровца местного мукомольного завода, была своя комната в общей квартире. Вернувшись с войны, он, конечно, заявился туда. А там — женщина с двумя малыми детьми. Да какая! Жена погибшего однокурсника, вот как.
— Я — в горисполком, справиться, где жить. Вежливый человечек сажает меня напротив, глядит в документы, на ордена и ласково успокаивает: «Ваше полное право, мы ее немедленно выселим». — «Как? У нее ж — дети! У нее — сын павшего героя!» — «Один-то — фронтовика, — ехидно говорит человечек. — А второй ребеночек чей?» Ну, тут я и ляпнул: «Ах ты сукин черт! Она еще в сорок первом похоронку получила. Да и не все ли равно тебе — чья у нее дочь? Махонькая, с ноготок... Я найду себе место. А если ты выселишь кроху — убью!» И уехал я из этого города...
Оказывается, много людей крутилось после войны по своей земле, растеряв адреса. Ну, то есть ничего не найдя по старому адресу, ставшему адресом пустого места. Добрался Алексей Прошин к следующей весне до города, в который их танк ворвался первым. Когда-то. Быстро уходили в прошлое недавние дни. Ему-то и не надо было вспоминать, он их не забывал, а другие уже спрашивали, что и как было. Вот, значит, этот город. Всюду цветет сирень. Входит он в центральный городской сквер, присаживается на скамейку, чтобы послушать, как дети галдят вокруг, и вскакивает. Посреди цветов — невысокий постамент, косая площадка, и на этой гранитной площадке — танк. Их танк! Его танк!
— Подожгли нас тогда... Командира — на месте, водитель в госпитале глотнул воздуха последний раз, а я — выбрался, выжил и в другую часть попал, тоже, конечно, в танк. А на граните — гляжу — три фамилии: Еремеев, Геращенко и Прошин. Алексей Прошин, да! «Погибли за освобождение нашего города». А я живой сижу и читаю свою фамилию. Сижу на скамейке перед танком. Думаю, куда мне пойти? А зачем? Я в городе проездом. Выступить попросят — зареву, как начну рассказывать... Курнуть бы! Обшарил карманы — ничего, в те годы с куревом туго было. В табачном магазине женщина разъясняет: «Фронтовикам в облторге талоны дают на папиросы». Я ж еще в пилотке, в гимнастерке с орденами... Ну, думаю, нога здесь, нога там! Дунул в облторг. Там солидный дядя читает мои бумажки. «Не могу талона дать, вы у нас не прописаны». А сам курит! И тут меня подхватило. «Нет, говорю, я прописан». И рассказываю про танк. А он мне... — поп замолчал.
— Что? Алексей Григорьич! Что? — долго добивался Игнат.
— «Тот, говорит, Алексей Прошин свое выкурил. А ты, говорит, не примазывайся к чужой славе, милок, если случайно имя и фамилия совпали»...
— Ну?
— Этого милка я ударил. Ждал, в милицию заберут. Не забрали. Испугался дядя чего-то... А больше я уж никуда не ходил.
— Обиделись?
— И уехал. К отцу. Другого адреса у меня не было.
— Так отец же! Хорошо!
— Он у меня священник. А это ведь какая профессия? Династическая, как у царей. До войны я из-за этого с отцом поругался вдрызг, пошел в мукомолы, а сейчас приехал, прослезился и от усталости, от обиды, от неустроенности... сдался. Работников везде недобор. В церквах тоже. Стал я попом. Странным, как меня называли.
— Почему?
— А я, например, в первые же выборы всю свою церковь портретами кандидатов в депутаты выклеил. Верующие же не лишены трава голоса! И — переместили. Поехал в другую церковь.
— Сюда?
— Нет, это далеко не первая и не вторая...
— А с женой где познакомились, с попадьей?
— Это еще до рясы, в очереди за квартирой. Часто встречались. Молодые оба, она тоже воевала, медсестрой... Потом вместе ездили по разным местам, там — одно, тут — другое, пока не сослали в эту старенькую церквушку... Так и прошла вся жизнь. Обиделся на двух дураков, а сам в дураках остался... Вот. Что это вы на часы все смотрите? Сколько там?
— Скоро девять.
— Спешите нынче?
— Я? Нет. Да уж некуда и спешить. Считайте, поезд ушел.
— Какой поезд?
Опасливо, всеми мышцами горла подстегивая голос, внезапно начавший пропадать, Игнат рассказал ему о Зине с Васей, о том, что они уже едут...
— Куда?
— Не знаю. Сами уточнят. Думаю, скоро будет вам письмецо.
Алексей Григорьевич встал и огляделся. И размахнул руки. Вовсю! Честно говоря, Игнат отклонился. Вмажет батюшка: заслужил. Но когда Алексей Григорьевич повернулся к нему, лицо, краснеющее над седой бородой, сияло, а глаза зажглись в вечернем воздухе, как лампочки.
— Ура! — прошептал он. — А чего это я шепчу? Ура! — Он крикнул на всю округу. — Моя дочка. Мой характер. Сработало! Ого-го! — загоготал он. — Игната! Дай я поцелую тебя!
Алексей Григорьевич поцеловал его три раза, постоял и стал стаскивать с себя рясу.
— Я сейчас плясать буду!
И верно, без рясы и без музыки пустился в пляс у древнего валуна.
— Земля треснет! — кричал ему Игнат.
— Выдержит! — отвечал поп.
— Ай-яй-яй! — неслось со склона.
Автобус пьяно качался. Без всякой надобности он так шарахался из стороны в сторону и так подпрыгивал на бугорках и трещинах асфальта, незаметных на эдаком бегу, что для полной схожести с лихим гулякой, которому море по колено, ему не хватало только затянуть удалую. Да, собственно, мотор и тянул, выжимая из себя остаток силы.
То ли к вечеру шофер спешил разделаться с очередным загородным рейсом, то ли Виктор Степанович сверх меры набегался по городу, намаялся и теперь едва стоял со своей сумкой, заметно клонящей его вбок. В щель между пассажирами он с трудом протиснул руку и ухватился за спинку ближнего сиденья. Кто-то тут же надавил, чуть не вывернув локоть, но Виктор Степанович не поддался и руки не отпустил. Потихоньку соседи смирились. А через час людей раскидало по разным сельским остановкам, и в железной коробке автобуса если не опустело, так заметно поредело. На закате в стеклах зарозовел лес, и контуры березовых листьев потемнели от этого не своего цвета, очень теплого, хоть и короткого, и обрисовались четче, будто приблизились. Виктор Степанович старательно вглядывался в зелень, потому что любил лес, бездонно ласковый. Задышалось вольготнее, а вот нога — та заныла вовсю, «хоть стой, хоть падай», как шутит дочка. А если всерьез, хоть криком кричи. Но он молчал, потому что ничего не поправить.
Боль мучила с тех далеких дней, когда рядом с их минометом вдруг засвистело, грохнуло и подносчика подкинуло в воздух. Рассказывали, он полетел, простирая руки, словно крылья. Так леталось во сне. А это было наяву, хотя уж и без сознания. Шлепнулся Виктор Степанович на сырую землю весеннего оврага и, разбрызгивая грязь, веретеном закрутился вниз по склону. Госпитальный врач сказал: приземлись на ровное, отшибло бы все нутро, начиная с сердца, а так, дескать, вышла какая-никакая амортизация. Он еще воевал после и дошел до Бреслау, где во время уличного боя его ранило пулей легче, чем первый раз. Тогда была и контузия, а из ноги долго вынимали осколки чужого снаряда и своих костей. Вторая рана совсем забылась в житейской круговерти, а первая — нет, не оставляла до сих пор, учила терпению до конца. И он учился, терпел.
Лес стал тихо меркнуть, хотя из-за него выстреливали в небо солнечные лучи, но он был такой огромный, что этого света, устремленного только ввысь, на него уже не хватало...
— И дача будет твоя?
— А чья же?
— А невестиного папашу куда? Он ведь еще шустрый.
— Пусть шустрит, пока дает гастрит.
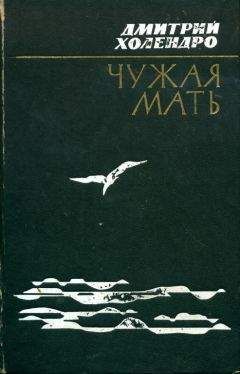

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)