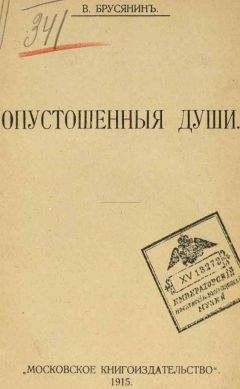В. В. Брусянин
Кладбищенские люди
Мы с сестрой Лидой живём на кладбище.
На нижнем этаже размещены квартиры кладбищенского причта. Здесь живут дьякон о. Иван, его жена Анна Ильинична и сын Лёша, мой ровесник; дьячок Корнелий Силантьич, седой щупленький старичок, вдовый. Рядом с квартирой дьячка в крошечной комнатке живут Гаврила и Епифан, сторожа. Оба они бессемейные, угрюмые, и весёлыми делаются только когда выпьют.
И дьячок Корнелий Силантьич, и дьякон о. Иван любят выпить и, когда выпьют, тоже становятся весёлыми и разговорчивыми. Так уже у нас на кладбище сложилась жизнь. Живут угрюмые люди и выпивают, чтобы хоть изредка повеселеть.
Дьячку Корнелию Силантьичу 60 лет, а он всё мечтает о том, когда ему позволят занять диаконскую вакансию. Никогда, конечно, этого не случится, и Корнелий Силантьич не будет диаконом, но мой отец и благочинный не разочаровывают его. Напротив, все уверяют дьячка, что первая же диаконская вакансия за ним. Так и обманывают его несколько лет и тем поддерживают его жизнь. Когда года три назад кто-то из консисторских сказал дьячку правду, он заперся к себе в комнату и порешил удавиться. Его едва отходили, и с тех пор все сговорились врать ради спасения жизни Корнелия Силантьича.
Вот уже несколько лет мечтает об иерействе и диакон о. Иван. Но человек он сильный, и ему не нужно спасительной лжи.
— Мечтаю я о священстве и знаю… умру дьяконом, — говорит он. — Ну, и Господь с ними!.. Пусть умру дьяконом…
И слёзы выступают у него на глазах, а он всё крепится и уверяет нас, что ему всё равно.
Лёша, сын о. Ивана, учится в духовном училище, учится прекрасно, и отец говорит:
— Верно, для Лёши я уступлю священническое место. Кончит он семинарию и будет священником… Вот наш духовный род и не прекратится…
О. Иван всегда так трогательно говорит о прекращении рода, и я понимаю его радость, когда он мечтает о судьбе Лёши. Он часто упрекает меня, зачем я пошёл по «светскому» пути и поступил в гимназию.
— Меня папа отдал, а я не при чём, — поясняю я.
Когда такие разговоры заходили при отце, последний резко и коротко заявлял:
— Не ваше дело, отцы мои, почему я Митеньку в гимназию отдал, а не в семинарию.
И резко обрывал разговор на неугодную ему тему.
Мой отец тоже мечтал о духовной академии. Его влекло высшее образование, но пришлось отказаться от этих мечтаний и примириться с ролью кладбищенского батюшки. Когда я задумываюсь о судьбе людей, живущих в мрачном кладбищенском доме, мне представляется мрачная картина человеческой жизни. Дьячок, дьякон, священник — все мечтали о высшем служении, а примирились на мрачном кладбищенском доме.
А Гаврила?.. У него тоже была своя мечта. Отец его имел большие огороды, — и он мечтал сделаться купцом. А Епифан?.. Он родился в безземельной семье крестьян деревни Письмянки и всю жизнь мечтал о собственной «земельке».
Мирно живут в мрачном кладбищенском доме здоровые, крупные, рослые мужчины и в одиночестве лелеют свои мечты… Отец мой уже не мечтает об академии, Епифан тоже говорит:
— Теперь мне земли-то надо три аршина…
Гаврила, впрочем, давно перестал мечтать об огороде и свёл свою жизнь к тому, что каждый день роет могилы. Если бы отец его не разорился, был бы он хозяином огородов, и я представляю Гаврилу взрывающим огородные гряды. Взрывал бы он гряды, сеял бы картофель, морковь, репу, а по осени собирал бы плоды своих рук. Теперь он взрывает землю большим чёрным заступом и роет могилы. Недаром как-то недавно дьякон зло над ним посмеялся:
— Вот, ведь, Гаврила, судьба-то какая!.. Ты всё мечтал об огороде, а вон что теперь делаешь, — на Ивановском кладбище кресты сеешь…
Насупив рыжие брови, Гаврила сердито смотрит на дьякона, а тот продолжает:
— Сеять кресты-то сеешь, а плодов-то тебе никогда не дождаться… Да, мил человек, никогда!..
— А ты, отец Иван, мотри-ка, сегодня выпил… Статочное ли это дело — говорить так о крестах?.. С огородами сравнял!..
Присутствовавший при этом разговоре дьячок Корнелий Силантьич зевнул, перекрестил рот и сказал:
— Всё сердятся люди… ссорятся… А для чего?.. Кого вон сюда сносят да в могилки зарывают, а кому Господь иную долю предназначает: и жив человек, и всё равно что мёртв…
Я часто вдумывался в глубину этих слов, — и на душе становилось темно и холодно. Все мы, собравшиеся под кров мрачного кладбищенского дома, — ни живые, ни мёртвые…
Жена дьякона, Анна Ильинична, тоже как-то раз говорила, что и её судьба сложилась не так, как хотелось. Как-то раз в ссоре с мужем она выкрикнула:
— Знала бы, что ты такой деспот, ни за что не пошла бы за тебя замуж!.. До сорока пяти лет прожил, а всё в дьяконах… Иван Игнатьевич Целердовский вон камилавку уже получил… А он сватался за меня… Дура была… отказалась… была бы, может, скоро и протопопицей.
О. Иван молчал, а по всему широкому лицу его расплывалась улыбка. Скосив глаза, он смотрел на воспалённое гневом лицо жены и говорил:
— Глупая… глу-у-пая баба!.. А ты мечтай!.. Живи да мечтай!.. «Мол, — вот, наступит же время, когда и я выйду замуж за Ивана Игнатьича Целердовского и буду протопопицей»… Вон дьячок наш всю жизнь мечтает, когда его в дьякона посвятят, я тоже мечтаю об иерействе… Да и все мы тут живём да мечтаем о чём-нибудь… Лёшка вон мой всё мечтает юнкером сделаться… Митенька вон тоже, поди, в доктора метит либо в адвокаты… Так уж человек устроен: живи себе да мечтай. Живи себе да и думай о том, чего у тебя нет… И в этом, матушка моя, смысл жизни… Вон консисторские сказали нашему дьячку, чтобы он не мечтал о дьяконстве, а он взял да и пошёл давиться… Живите, люди милые, всякими мечтаниями, — разлюбезное дело! Ха-ха-ха!..
И зачем я родился на кладбище? Ужели только затем, чтобы и быть погребённым на нём же?
Дьякон о. Иван всегда представляется мне какой-то чёрной птицей. Ходит он, грузный и большой, по кладбищенским дорожкам. Идёт спешно, точно летит, размахивает руками как крыльями, и полы его полукафтанья или рясы развеваются ветром, — и ещё больше он делается похожим на птицу, чёрный, со своими взлохмаченными волосами и с тёмной бородой лопатой.
И всегда он много говорит и зло шутит: точно едкая жидкость какая-то его слова, и смех похож на противный лязг ржавого железа.
Всем явлениям жизни, событиям из жизни близких или дальних он даёт какое-то своё объяснение.
Как-то раз вечером в царский день сидим мы все на лавочке у кладбищенских ворот и смотрим на домики слободки, в окнах которых мелькают кое-где зажжённые попарно свечи. Прямо видна Бекетовская улица. И на ней кое-где огоньки, а у дома купца Лыжина ярко пылают громадные разноцветные звёзды с вензелем.
— Иллюминация! — вдруг выкрикнул о. диакон. — Ил-лю-ми-на-ция!.. На-ция… Ация… Ха-ха-ха! Зажёгся город и горит… Ликуют людишки, а того не поймут, что огни-то эти самые надо в душе зажигать! Уж если хочешь быть патриотом, так души своей не жалей, — жги её, стерву, до конца!
— Иван, что ты!? Бог с тобой! — взмолилась его супруга Анна Ильинична. — О душе так говоришь.
Мы все притихли.
— А что? О какой я душе-то говорю? Разве о праведной? Ого! Отец Иван не дурак и по праведной душе панихидку споёт… Я имею в виду души вон этих проклятых людишек, что живут в нашем городе… К нам, ведь, их всех перенесут, людишек-то из города, а мы с Гаврилой закопаем их в землю, да и панихидку с отцом иереем споём… Не так ли, Гаврила?
— Закапывать людей в землю — это одно дело, о. дьякон, а бросать грязные комья этой земли в людей — это совсем наоборот…
— Что наоборот-то? Дурья ты голова! Наоборот… борот… орот… рот… от… т… И это еры проклятое на конце… И какое ты мне слово ни скажи, — сейчас я его по косточкам разложу, и ничего от него не останется, потому — силу имею дерзать! А ты что? Гаврила… аврила… рила… и т. д. И… вот от тебя ничего и не осталось… Понял?
— Будет уж тебе, — взмолилась снова дьяконица, — болтаешь, болтаешь…
— Ну, что будет?
— А то и будет: разложил ты сегодня целую бутылку по рюмочкам, — и ничего от неё не осталось.
Все засмеялись.
— Водочку, мать моя дьяконица, я разложил на составные элементы, а бутылочка-то осталась невредимой. Завтра, вот, мы с Гаврилой обменяем её на новую, запечатанную, и опять будем разлагать на составные элементы. Потому у нас здесь, на кладбище-то, и всё предназначено на то, чтобы разлагалось на составные элементы. Вон сколько под крестами разных покойников, и каждый из них разлагается. Жив был человек, царь природы, а потом эта же самая природа-то и разлагает своего царя на составные элементы… Вот вам и вся мудрость жизни!
— Это всё так-то так, — прервал дьякона отец, — и человек разложится, и все мы вымрем, а вот что я вам, о. Иван, скажу…