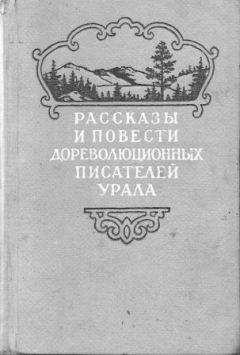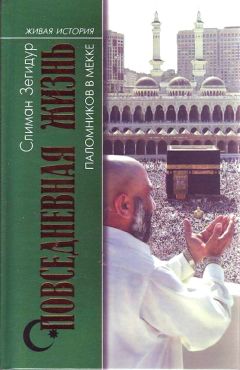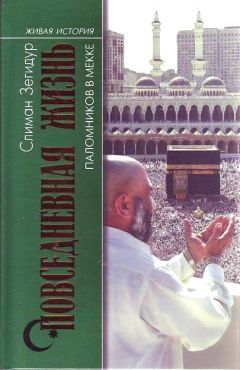Суров и грозен старый мулла Салимов, три раза побывавший в Мекке. Когда он идет по улицам к старой и горделивой мечети, после того как уже кричал на молитву гнусавый азанчей[1], — тогда все живое покорно и почтительно жмется по сторонам, торопливо давая дорогу… А он, высокий и седой, с молодыми бархатными бровями, важно и медленно, глядя в землю, идет по улицам, сверкая белоснежной чалмой… Идет и четко ударяет посохом о дорогу, тем самым, с которым три раза ходил в Мекку и которым часто бивал непослушных сынов священного корана[2]… Идет старый мулла — и все живущее смиренно склоняет голову… Мужчины смотрят трусливо, как зайцы, а женщины, торопливо кутая лица, быстро скрываются с улиц… Перестают горланить полунагие башкирята, и даже собаки, злые и тощие, поджимают книзу волчьи хвосты. И слышно, как за муллой несется гортанный, полузадавленный говор:
— Ишан! Ишан![3]
Да, суров и грозен старый мулла Салимов, и выше всего на свете он ставит священные страницы корана… Поэтому, должно быть, старый мулла полупрезрительно и важно смотрел кругом, на жалкие, собачьи конуры, где прятались полудикие люди — верные сыны ислама, где жили болезни и гулял вечный мрак… И, когда люди гнулись перед ним покорно, как собаки, старый мулла был доволен, ибо это так нужно было по смыслу, который окружал только его… Ибо он побывал три раза в священной Мекке, он знал наизусть великие, огненные страницы корана, и было бы нелепо допустить, чтобы эта жалкая человеческая орава не гнулась смиренно перед ним, как приозерный тростник от могучего всполоха ветра…
Довольство и почет окружали старого муллу. Ни у кого в округе не было таких богатых табунов лошадей, таких стройных и легких, как степной ветер, кобылиц и таких богатых, красивых ковров в доме… Никто не пользовался таким почетом; ни к кому, кроме муллы, не ездили такие важные и чиновные гости, как становой, земский или даже исправник… А волостной старшина Карымов, дряхлый и дряблый, как столетний пень, изглоданный червями, ни одного дела не мог решить в волости без того, чтобы не попросить совета у муллы… И если нужно было кому-нибудь повести дело в свою пользу, — тот неизменно шел сначала к ишану, кланялся ему в ноги, целовал большую, жирную руку и клал деньги на богато убранные нары. И тогда дело решалось в его пользу…
Много видал на своем долгом веку старый мулла. Был два раза в самой столице, в той самой, где живет царь. Рассказывал потом прихожанам, что был у царя два раза, в самой его спальне, где стоят стройные, золотые колонны… Что долго говорил каждый раз с царем, и он обещал сделать муллу Салимова ахуном[4] в губернском городе… И обещал никогда не трогать вольные башкирские земли, что рассыпались у ног гордого, темносинего Урала. Что царь вышлет на это золотую грамоту, и она будет для всех так же священна, как страницы великого корана…
Так часто рассказывал старый мулла Салимов. Все жадно слушали его речи, чмокали губами и чесали бритые затылки… И точно выше от этого делался мулла, суровый, в белоснежной чалме, с молодыми бархатными бровями.
Однажды пришел к мулле старый и дряхлый старшина Карымов. Провел ладонями по лицу, подобострастно припал к рукам муллы и прикоснулся к ним синими, безжизненными губами. Мулла молча показал на нары, где лежали пышные ковры. И старшина сел.
Молчали долго.
Первым должен был заговорить мулла, лежавший на нарах с полузакрытыми глазами, над которыми четко и странно молодо изогнулись черные брови… Карымов смущенно скреб в затылке, отодвинув в сторону аракчин. И вздыхал.
Наконец, мулла поднял молодые брови и спросил тихо:
— Тебе что, Ахмет?
Старшина опять поскреб в голове, пожевал синими губами и ответил робко:
— Хочу жениться, мулла…
Опять помолчали. Взгремела на улице собака, за ней другая — и скоро дружная стая их бросилась за кем-то по дороге. Когда затихли, мулла спросил коротко:
— Зачем?
Карымов опять пожевал синими губами. И ответил:
— Хозяйство большое… Сам знаешь!.. Ханисафа стара стала… Хозяйство большое… Разреши, ишан!..
— Невеста есть?
— Есть, ишан…
— Кто?
— Дочь старосты Садыкова. Бибинор…
— Но ведь она еще молода?
— Ей скоро шестнадцать…
— Так по закону нужно…
— Скоро, ишан… Месяц остался до шестнадцати… — Опять замолчали. Мулла Салимов задумчиво смотрел в окно, где играли краски молодой, едва нарождавшейся весны. На подоконнике возились и страстно ворковали голуби…
— А Садыков согласен за тебя отдать дочь?
— Он согласен, мулла… Не знаю, как Бибинор.
Мулла строго сдвинул молодые брови и сказал презрительно:
— У нас с женщинами не разговаривают! Ты это знаешь?.. Если отец отдаст — ульган[5]! А с женщинами не разговаривают… О калыме говорил с отцом?
— Да…
— Много просит?
— Десять лошадей, полсотни баранов и триста рублей деньгами…
— Ты согласен?
— Да, ишан… Конечно…
Карымов облизал синие, сухие губы и усмехнулся. В старческой, дряблой памяти пробежала, как легкая горная коза, высокая, тоненькая Бибинор, с черными, смоляными глазами… И Карымов еще раз облизал свои синие, как у мертвеца, губы, а руки его, худые и тонкие, как плети, странно передергивали костлявыми пальцами…
— Ну, так что? Якши!.. Начинай свадьбу… — проговорил мулла и устало закрыл глаза.
Карымов встал, порылся в кармане. Вытащил бумажный сверток и положил на нары. Мулла не шевелился. Карымов низко поклонился и тихо вышел, чуть поскрипывая новыми, сафьяновыми ичигами.
Как невеста, наряжалась степь…
Кто-то большой и сильный, весь пронизанный радугами света, дни и ночи шел по степи, небрежно роняя за собой цветы и песни… Одевалась в зеленые жемчужные ленты степь, веселилась, пьяная, заодно с солнцем и бросала в воздух музыку птичьих голосов. Сверкали полноводные озера, шептался радостно тростник, синел вдали горный Урал и ломал в воздухе четкие грани вершин.
Широко и богато играл свадьбу старый, дряблый старшина Карымов. Издалека съехались гости, пили молодой кумыс, досыта ели баранину. Гулко и протяжно икали, потом опять ели и запивали пенистым белоснежным кумысом. Со всей округи съехались лихие, ловкие наездники на скачки, чтобы получить призы, выставленные богатым женихом, старшиной Карымовым. Целый день, при громком, восторженном реве толпы, скакали наездники, с места брали все вместе, а потом тонули в степи на вытянувшихся, как стрелы, лошадях. И возвращались так же бешено, при восторженном реве толпы…
В доме старосты Садыкова смуглые, черноглазые девушки наряжали невесту, молоденькую, стройную Бибинор. Гортанными голосами пели смуглые девушки печальные песни, и заливалась слезами молоденькая Бибинор. Не радовал ее богатый кафтан, опушенный горностаем, и яркие, тяжелые монеты, заливавшие упругую, полудетскую грудь… Плакала горько Бибинор, и все чудились ей дряхлые, синие, бескровные губы и тощие, как палки, сухие руки жениха. Сквозь крупные слезы смотрела она в окно, на улицу, где гремела толпа, где скакали лихие наездники, и взгляд черных глаз ее не раз останавливался на молодом и стройном Якупе — одном из лучших и ловких, ездоков. И Якуп, проезжая мимо, бросал соколиный взгляд на окно, а потом бешено, с странно искаженным лицом мчался наряду с другими в волны изумрудной степи…
Плакала Бибинор, а смуглые девушки пели печальные степные песни… Бросалась Бибинор на нары, лицом вниз, судорожно вздрагивала всем телом и тоненьким, хрустальным голосом пела:
— …Унеси меня, степной ветер, в далекие края к милому… Спрячь меня, зеленый камыш, от судьбы горькой… Пойте, птицы лесные, песни венчальные! Я пойду в урман, до самого Урала, и буду кричать долго-долго… Милый откликнется мне звонко и протяжно, а птицы будут петь песни венчальные… Спрячь, схорони, урман, навеки с милым!.. Река, унеси мое горе…
Пела, дрожала всем телом, и плакали молодые подруги… А там, за стеной, хохотал с гостями пьяный отец — староста Садыков и громко хвастался полученным калымом. Чмокали толстыми губами завистливые гости, пили водку, кумыс, ели баранину и орали гнусавыми голосами песни, величая жениха и хозяина. И не было никому дела до тоненькой Бибинор и до ее слез… А в глубине своего дома, осматривая пышные брачные нары, жадно лизал синие губы жених и потирал тонкие, дряблые руки…
Два случая, как два враждебных вихря, налетели на деревню и взволновали старого, сурового муллу Салимова…
Во-первых, приезжали межевые инженеры и к мулле не заехали. Взяли старшину, старосту, понятых и целую неделю мерили земли и проехали по граням. Составляли новые планы, а потом заявили старшине, что часть башкирских земель отойдет в казну… Чесали затылки ошеломленные башкиры, горланили что-то на сходе хриплыми голосами и порешили в конце, что не отдадут они вольные башкирские земли, подаренные им навечно, вплоть до синего Урала… Приходили потом все к мулле Салимову, и он, гневно сдвинув молодые брови, сверкая белоснежной чалмой, кричал, что это приезжали «урус дунгузы»[6], что царь обещал ему золотую грамоту на земли и что царь никогда не обманет старого муллу, три раза побывавшего в Мекке… И он клянется священными листами корана и кровью своей отстоять родные влажные пашни и степь, покрытую изумрудной зеленью… И слушали успокоенные башкиры слова старого муллы Салимова, легче от этого становилось на душе, и все расходились по избам… Но мулла Салимов долго не мог успокоиться, и его давила мысль, что приезжавшие чиновники даже не заглянули к, такому почтенному и уважаемому мулле, у которого часто бывал сам исправник…