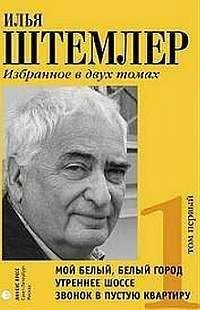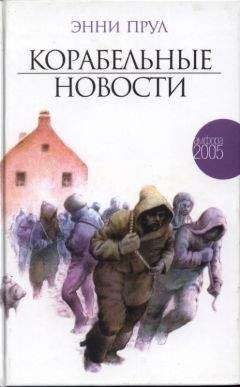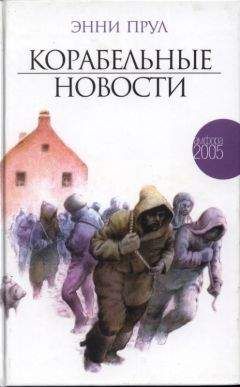Илья Штемлер
Мой белый, белый город
Илья Петрович Штемлер МОЙ БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ГОРОД Маленькая повесть в шести новеллах
Прошло много лет, как я уехал из города, где родился.
Но в памяти моей он сохранился все таким же - под тяжелым, яростным солнцем, полным липкого морского ветра.
Ветер надувал развешанные по дворам на веревках простыни, рубашки, наволочки. И город казался огромным парусником, если можно представить кривые улочки, древнюю крепость как корабельные надстройки…
В те годы по утрам меня будили зеленщики, старьевщики - мелкие продавцы мелкого товара.
А еще в те годы в мечети на минаретах не было микрофона, и слабый голос муэдзина не мог согнать с меня сон, хотя мы жили рядом с почитаемой всем мусульманским миром древней мечетью Таза-Пир.
Каждый год я стараюсь побывать в своем городе. И с каждым приездом моим город меняется настолько, что, кажется, и небо меняется. И море…
Недавно я вновь приехал в Баку.
Днем была жара, и я работал ночами. А спать ложился на рассвете, при пении муэдзина с минарета мечети Таза-Пир. Теперь он пел довольно громко: на минарете установили микрофоны, со всех четырех сторон.
Микрофоны - это уже не детство. Они появились после того, как я, окончив институт, уехал из Баку.
Кое-кто вообще утверждает, что и вместо старика муэдзина на минарете поставлен магнитофон, срабатывающий от часового механизма ровно в пять утра. Чтобы правоверные не проспали первый намаз.
Я этому не верю. Не хочу верить…
Каждый из нас подбирал себе камень по вкусу.
А выбор был: в соседний двор с полмесяца как привезли машину камней. Собирались рыть колодец. И вот уже с полмесяца как вечерами спорили жильцы соседнего двора: каждый хотел, чтобы колодец вырыли поближе к его квартире.
Рабочие - губастый Ибрагим и его жена - сидели под тутовником, ели лаваш с виноградом и ждали, когда кончится спор и укажут место, где рыть колодец. Они сидели с шести вечера дотемна, изредка обращая лица в сторону окна, из которого доносились наиболее громкие крики.
- Холера бы взяла этого Гитлера и тебя, Таир! - кричала горбатая Зейнаб. - Был бы мой муж рядом, он бы не допустил, чтобы его жена-инвалид таскала ведро воды почти из Арменикенда. О-о…
- Какой Арменикенд?! Что ты мелешь, глупая женщина? - возражал ей старый Таир, председатель артели по ремонту обуви. - Десять шагов от моей квартиры и двенадцать от твоей. Всего на два шага разница!
Таир выскакивал во двор и отмерял шаги в разные стороны, словно искал место, где зарыли клад. В парусиновых брюках он казался большим белым циркулем…
- Два шага до твоей могилы, Таир! - вопила Зейнаб. - Посмотри, какие шаги ты делаешь для себя и какие для меня, несчастный!
Таир хлопал себя по дряблым ягодицам и нервничал:
- Клянусь жизнью, эта женщина может свести с ума академика из Академии наук! Пойми, женщина: если шагать наоборот - будет центр. А в центре колодец копать нельзя. Постановление исполкома!
Губастый Ибрагим молча жевал свой лаваш с виноградом, щуря черные глаза, разъеденные дымом от кипящего кира, - днем он работал кирщиком, заливал крыши киром. А его жена испуганно замирала, придерживая кусок лаваша у рта.
Груда камней с каждым днем уменьшалась - прекрасный, отполированный морем крупный галечник - ребята за ним приходили даже с Бондарной улицы, а это не так уж и близко, надо сказать. Но куда не пойдешь в поисках хорошей биты для игры в «цукорий»…
Наконец позавчера Ибрагим в разгар перепалки соседей завернул виноград и лаваш в газету «Вышка». Встал. Плюнул в кучку оставшихся камней, закинул на плечи две лопаты и пошел со двора. Жена подхватила большую плетеную корзину - зембиль, плюнула в то же самое место, куда плюнул муж, и выругалась по-русски, как ругался дворник, косой Захар, когда читал сообщение о наступлении немцев…
- Все из-за твоего упрямства, женщина! - кричал Таир. - Они самому председателю суда Алекперову колодец рыли.
- Лучше бы они этому Алекперову что-нибудь другое вырыли, - подхватила Зейнаб. - Моей племяннице два года дал. А за что?! Сколько людей сейчас спекулируют, и ничего! Война, жить трудно. Кто крутится, тот живет…
Итак, выбор у нас был широкий, и каждый мог подобрать себе камень по вкусу. Правда, вкус почти у всех мальчишек совпадал - бита должна быть не круглая, чтобы не катиться, лучше всего овальная и тяжелая, чтобы сбить «цукорий»… Игра заключалась в следующем: в центр очерченного мелом круга ставилась пустая банка с маленьким камешком - «цукорием» - наверху. Так прозвали камешек в связи с тем, что сахар по-украински назывался «цукор». Его до войны продавали в голубых пачках… И заядлые любители чая, после того как осушали стакан, переворачивали его и на дно водружали огрызок сахара, что и напоминало внешне нашу перевернутую банку с камешком на макушке. Вероятно, поэтому и прозвали игру «цукорий». И надо отметить, что это была самая популярная игра нашего военного детства, за исключением, пожалуй, другой игры - «Здравствуй, осел!», но не о ней сейчас речь…
Мы играли в «цукорий». Мы отступали от круга метров на десять и по очереди швыряли свою биту. Попасть в банку было несложно. Главное, так выбить ее из-под «цу-кория», чтобы камешек свалился в меловой круг. А это было великое искусство, которое давалось не многим. Игра была азартная, она разжигала страсти, сопровождалась криками, спорами, клятвами и мелким плутовством. И нередко прерывалась потасовкой, когда двор шел на двор…
Cсвою удачу… Но мне так и не удалось до конца испить сладкую чашу победителя - кто-то крикнул за спиной:
- «Дезертирка» вышла!
Я тут же был забыт. Все обернулись в сторону крыльца, на котором стояла девчонка в голубой косынке. Черными, чуть навыкате, глазами она беспокойно и настороженно ощупывала нас. Все соседи считали, что она красивая девочка, но я был убежден, что красивым человек не может считаться, если у него такие бараньи глаза. И такие волосы, похожие на растрепанную метлу дворника Захара…
Девочка поджала одну ногу, и все увидели протертую насквозь подошву старой туфельки. Губы ее скривились, и она произнесла негромко - вероятно, не хотела, чтобы ее кто-то слышал, кроме нас:
- Мне в школу надо…
Мальчишки многозначительно покачивали в руках тяжелые биты.
- …Если я опоздаю, меня будут ругать, - отчаянно добавила она и осторожно, точно пробуя пальцами ног воду, ступила на первую ступеньку.
- Давай! Давай! Спускайся, - злорадно подбадривали ее.
- Вы будете бросать в меня камни? - Она шмыгнула носом.
Все молчали. И без слов было ясно, что намерения ватаги в отношении девчонки не слишком миролюбивы…
Я же отчаянно старался схватить за хвост ускользающую удачу, что так внезапно свалилась на меня.
- Эй, Томка, ты видела, кто сейчас сбил «цукорий»?
- Ты дурак! И все вы дураки…
Она повела худенькими плечиками под стираным-перестираным платьем и спустилась с крыльца, глядя прямо перед собой.
Кто-то из нас первым пустил камень по асфальту, прямо под ноги девочке. Второй, третий… Камни, словно трассирующие пули, веером слетались к тому месту, куда ступали ее туфли. Девочка подпрыгивала, пропуская их под собой, и, не выдержав, побежала…
Все началось с того душного вечера, когда во дворе появился высокий мужчина в толстых очках. Это был отец Томки - Спартак Адигезалович Адигезалов. Все знали, что он ушел на фронт в самом начале войны. И вот вернулся. В очках и гимнастерке с латкой на локте. Неизвестно, кто первым пустил слух, что Спартак не просто вернулся, как возвращались раненые, а убежал с фронта, дезертировал. Потом мы долго гадали, кто же пустил этот слух - то ли горбатая Зейнаб, то ли тетка Марьям, которая продавала соседям вонючее хаши. Но слух такой был. А так как у всех соседей кто-то воевал или уже был убит или ранен, то слух этот не оставили без внимания.
- Счастливая Аида, Томкина мать. Умерла, не дожила до черного часа - видеть мужа-дезертира. Подумаешь, близорукий! Кто сейчас здоровый? Все воюют - и ничего. - И горбатая Зейнаб сообщила, что однажды ночью она видела, как Адигезалов шел по двору… без очков. Ночью. Думал, что его никто не видит, все спят. Он шел в уборную без очков… Зейнаб так поразилась, что не могла и слова вымолвить. Тогда ей все стало ясно. Видимо, она и пустила слух, что Адигезалов - дезертир…
- И как его родители таким именем назвали: Спартак? - озадаченно спросил дворник Захар.
- А что родители? - вмешалась Зейнаб.- Как что - родители виноваты. Откуда они знали? Как что - всё родители виноваты…
- Нет, не все мне ясно, - сомневалась моя бабушка. - Почему он добровольно ушел на фронт? Я ведь помню, он стоял на призывном пункте на улице Полухина, вместе с моим Женечкой…
- Почему? Чтобы пыль в глаза пустить! - Казалось, что горб у Зейнаб еще больше вздулся от негодования.